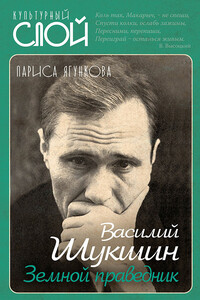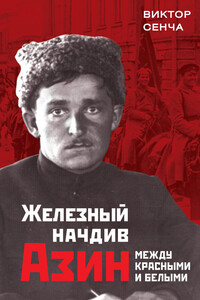Потомки Каина предпочитают называть своим предком Авеля.
Борис Крутиер
…Период пражских деревень в судьбе Марины Цветаевой особый, этакий мучительно-нежный. И творческий одновременно. Ведь именно там, в звенящей тиши и среди запахов трав, она как нигде прочувствовала силу своего мастерства нанизывать коротенькие слова на нить чудодейственной рифмы. И, конечно, очередная сильная Любовь, закончившаяся радостью материнства.
Поклонники Марины Ивановны почему-то с некоторым снисхождением относятся к цветаевским «пражским деревенькам», считая их в эмигрантском периоде поэтессы неким промежуточным мостиком между Берлином и Парижем. Но это не так, далеко не так. Жизнь в чешской глубинке (а это более трёх лет – с осени 1922-го до зимы 1925 года) закалили Цветаеву и… успокоили. Цветаева до и Цветаева после, по сути, совсем другой человек и поэт – более самостоятельный и достаточно сильный. И в жизни, и в творчестве потихоньку исчезают наивно-сентиментальные нотки, уступив место мудрости, строгости жанра и меткости пера. И ничего удивительного в том, что жизнь великой поэтессы в деревнях близ Праги позже назовут «болдинской осенью» Марины Цветаевой.
Скажу больше: чешская деревенская глушь, обострив её и без того обострённые чувства, явилась своего рода огранкой бесценного дара, превратив его почти в гениальный. Когда поэтесса перебралась в эмигрантский Париж, для бывших соотечественников это показалось явлением: миру во всей красе и великолепии предстал изумительный по чистоте и исполнению поэтический бриллиант по имени «Марина Цветаева».
Что же это за глушь, так много изменившая в судьбе Цветаевой? Какая она, пражская деревня, успокоившая метавшуюся душу великого Поэта? Задав себе эти вопросы, я отправился в Прагу, чтобы в окрестностях знаменитой чешской столицы лицом к лицу встретиться с той самой деревней, где более года проживала семья Марины Цветаевой. Имя её – Вшеноры.
Даже не зная чешского языка, на пражском железнодорожном вокзале легко сориентироваться: удобно размещённое недалеко от касс огромное табло позволяет без труда узнать и название электрички, и номер платформы, и время отправления.
Состав тронулся тютелька в тютельку – в десять ноль две, как, видимо, у них и положено. Несмотря на обычный вид, внутри вагон электрички оказался двухуровневым; а если учесть небольшую промежуточную площадку с сиденьями, получается, что уровней этих чуть ли не все три. Что и говорить, это вам не «Москва-Петушки».
Народу немного – чешская семья из трёх человек, какой-то дачник и я. На первой остановке за мостом через Влтаву в вагон заходит пожилая женщина. Тяжело дыша астматической грудью, она занимает место напротив меня. Пока размышлял, не заговорить ли с дамочкой о русской поэтессе Цветаевой, как вошли контролёры и, приветливо улыбаясь, принялись проверять проездные билеты. Когда дошли до моей соседки, та что-то быстро затараторила, но из всей неразберихи ухо уловило лишь пару знакомых фраз – «данке шён» и «гутен морген». Понятно – немка. Жаль, не поговоришь, ибо мои познания языка Гёте и Шиллера как раз и ограничиваются фразами, сказанной вежливой немкой местным контролёрам.
На вид попутчице лет семьдесят, хотя при беглом взгляде можно дать и меньше. Немецкая педантичность буквально бьёт в глаза: «старушка», несмотря на возраст, одета с большим вкусом, а волосы заправлены вроде и просто, но опять же с особым шармом. Она, небось, думаю я, помнит жизнь при нацистах, поэтому очень интересно было бы с такой тётенькой побеседовать. Кто знает, возможно, её отец воевал где-нибудь у нас на Смоленщине да так там и сгинул? На земле, где погиб мой дед…
Но язык стоит перед нами непреодолимой преградой, поэтому мы, мило улыбаясь, лишь киваем друг другу, когда почти одновременно начинаем пить чай из своих термосов. Попивая, любуемся майским разноцветьем лугов и сочной зеленью густых дубрав, мелькавших за окном…
А вот и Вшеноры. Не знаю, какие чувства переживала, впервые очутившись на перроне местной станции Марина Цветаева, но мне как-то сразу сделалось одиноко. Нет, ярко светило майское солнце, пичуги щебетали так, будто готовились к конкурсу в эдемском саду, но кругом не было ни души. Я и пичуги. И солнце.