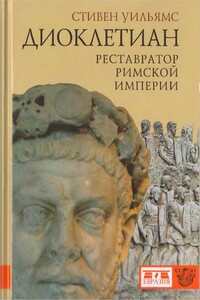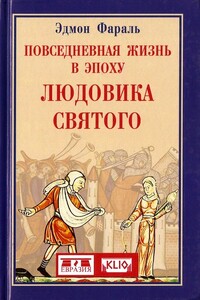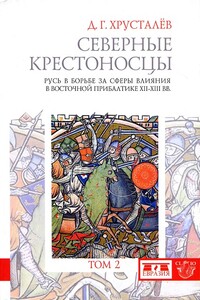Историография, страдающая амнезией (1750–1789)
Поскольку знатные дамы покинули политическую сцену как таковую уже очень давно, память о роли, какую они играли во времена Валуа, все эти годы утрачивалась всё более, и к 1750 г., когда иллюзии Регентства развеялись и установился классический восемнадцатый век, это забвение сделалось явным. Историки второй половины века, искавшие в прошлом истоки великих философских и нравственных перемен, забрезживших в Европе, переосмысляли в то время историю Франции как историю медленного избавления от предрассудков, неуклонного прогрессивного развития людей. При этой систематической реконструкции прошлого, которое с удовольствием описывали как варварское, в нем обнаруживались отдельные светочи, предвещавшие славное настоящее, и среди них привилегированное место занимал Генрих IV. Таким образом, продолжал выстраиваться культ первого Бурбона, подпитываемый «Историей» Перефикса (пять переизданий с 1749 по 1776 г.), в ущерб королям — его предшественникам и прежде всего Екатерине, которая, в зависимости от мягкосердечия интерпретатора, выглядела либо абсолютным Злом, либо несчастной матерью, обездоленной и нерешительной. Тем не менее забыть королеву-мать было трудно, и она в исторических рассказах сохраняла свое место. Зато фигуры всех прочих женщин, сыгравших важную роль в том веке, растворялись в воздухе и, наконец, полностью исчезали из пейзажа, где вскоре уже двигались одни лишь мужские силуэты.
В «Опыте о нравах и духе народов», изданном в 1756 г., Вольтер в наиболее полном виде изложил свое представление об истории Франции, увиденной в свете Разума. Философ рассматривал интересующий нас период как век грубый, «готический», который олицетворяет Равальяк, «слепое орудие духа того времени», и в котором Генрих IV выглядит образцом терпимости. По сравнению с этим героем, которому он уже посвятил свою «Генриаду», все Валуа — чудовища извращенности, непостижимые для современного человека. Чтобы продемонстрировать это, Вольтер без колебаний возрождает старое представление, что Варфоломеевскую ночь «задумывали и готовили два года» — даром, что это представление уже давно было отвергнуто. «Трудно постичь, как такая женщина, как Екатерина Медичи, которая выросла среди удовольствий и которой гугенотская партия внушала меньше всего опасений, могла принять настолько варварское решение. Еще больше эта ужасная жестокость удивляет в двадцатилетием короле»[742].
Генрих IV, предвестник просвещенных времен, остался непонят своим веком, — отмечает Вольтер, — и при жизни его почти не ценили, судя по покушениям и упрекам как со стороны гугенотов, так и со стороны католиков. Его обижали даже в частной жизни. «Жена, не любившая его, устраивала ему неприятности дома. Даже любовница, маркиза де Верней, злоумышляла против него. Самая жестокая сатира на его характер и честность была написана принцессой де Конти, его близкой родственницей. […] Неосмотрительное, суматошное и несчастливое регентство его вдовы усугубило сожаления о потере ее мужа…» Первого Бурбона преследуют женщины — странная картина. Однако автор разъясняет ее. Первая супруга, любовница, кузина, потом вторая супруга — все они в некотором роде представляют собой парадигму непонимания, какое проявляло время. Лишь умерев, избавившись от этого обременительного ареопага, Генрих IV смог перешагнуть через века и наконец обрести почитателей, достойных его, ибо «его слава приумножается с каждым днем, любовь французов к нему стала страстью»[743].
Конечно, философ не первым вознес хвалу Генриху IV. Но он опередил предшественников, зайдя в похвалах дальше них, сняв с короля обвинение в «грехе», до тех пор неотделимом от его памяти, — в распутстве. Его обвиняли, — пишет автор, — в том, что он слишком много занимался любовью, мечтали даже оскопить (Бейль); это глупость: его многочисленные романы — лишь мелкие проступки, а мужское начало неотделимо от стремления побеждать. Так что, когда Генриха IV представляют жертвой женщин, это лишь мнимый парадокс. На самом деле женщины нужны лишь затем, чтобы мужчина мог удостовериться, что обладает силой. Впрочем, в этой истории они — не более чем тени. О Маргарите говорится лишь в нескольких строках, и называть ее имя автор избегает. В момент брака она — «сестра» Карла IX, во время войн 1585 г. — «неосторожная жена» Генриха IV, и ему «не составило большого труда помешать [ей] захватить Ажене, которое она хотела завоевать» — хотя это неправда. Что касается развода, он не упомянут. Точно так же Мария — только «вдова» короля и, кстати, настоящее бедствие, потому что все достижения царствования Генриха IV «были утрачены в первый же год регентства». А если Екатерина не упоминается среди главных организаторов Варфоломеевской ночи, то не потому, что она невиновна: просто настоящие действующие лица здесь — «Гизы» и «два итальянца, позже кардиналы, Бираг и Рец», второй из которых никогда не был кардиналом