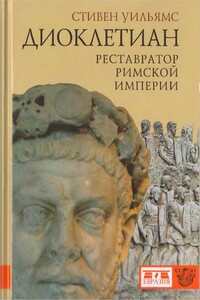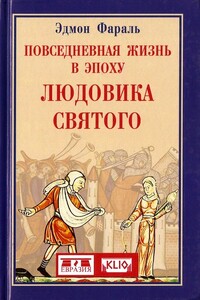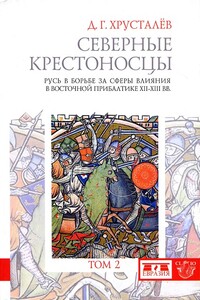Вы как-то сказали, чтобы написал о Вас я.
Но кто же, мадам, мог бы это сделать хорошо?
Тут нужен бы Ронсар, с его весомой лирой
[470]…
Тем не менее он приступил к «Рассуждению» о ней. Он описывал королеву как женщину необыкновенную. Прежде всего, она особо красива: «Все дамы, какие есть, будут и когда-либо были, рядом [с ее красотой] безобразны», — пишет он, приводя многочисленные примеры, демонстрирующие изящество королевы, ее умение одеваться, пышность ее туалетов и восхищение, какое она вызывала у окружающих. Далее мемуарист переходит к описанию ее великого ума. «Ее красивые письма, как можно видеть, показывают его в достаточной мере: ибо они исключительно прекрасны, написаны как нельзя лучше, независимо от того, идет ли в них речь о предметах важных или об обыденных. […] и если бы кто-нибудь собрал их в сборник, их и ее речи, они послужили бы образцом и поучением для всех», ведь Маргарита так же хорошо умеет говорить, как и писать. Наконец, Брантом упоминает ее смелость, признавая с восхищением, которое ничуть не противоречит реализму, что эта смелость была, «конечно, великой, когда бы ни проявлялась, по и послужила причиной всех ее бед — ибо, если бы она пожелала сдержать и убавить свою отвагу хоть на самую малость, ей бы так не досаждали, как бывало».
На три этих оси и нанизан текст, который в остальном чередует одно воспоминание с другим, целиком проникнут безграничным восхищением автора перед героиней и наполнен простодушными преувеличениями. Маргарита — «единственная в мире», богини и императрицы былых времен «рядом с ней не более чем горничные», ее сочинения внушают желание посмеяться «над беднягой Цицероном с его безыскусными текстами»… Тем не менее эти гиперболы — лишь личные суждения Брантома, которые ничуть не искажают его свидетельств, поскольку этот перигорский дворянин говорит по преимуществу о том, что видел сам или слышал от общих друзей. Так, его описание любви королевы к чтению похоже на ее собственное описание, но конкретней: «Она очень любит находить прекрасные новые книги, которые появляются, повествуют ли они о священных предметах или о людях; и когда она принимается читать книгу, сколь бы велика и пространна та ни была, она никогда не оставляет и не прекращает чтения, пока не дойдет до конца книги, и очень часто ради этого не ест и не спит. Она сама сильна в сочинительстве, как прозы, так и стихов. […] Она часто сочиняет отдельные стихи и стансы, очень красивые, отдавая их петь (и даже поет сама, поскольку имеет красивый и приятный голос, аккомпанируя себе на лютне, на которой очень мило играет) маленьким певчим, которые у нее есть; и так она проводит время и переносит свое несчастье, не обижая никого»[471].
Что касается политического анализа, сделанного Брантомом, — это отнюдь не досужие рассуждения. Если бы королева и ее муж, — пишет он, — «были вполне едины, и телом, и душой, и дружны, как были когда-то, возможно, всё бы сложилось лучше для всех, и они бы заставили бояться, почитать и признавать себя такими, как они есть». Его длинное выступление против салического закона тоже отмечено печатью здравомыслия: «Если правильно, что в Испании, Наварре, Англии, Шотландии, Венгрии, Неаполе и Сицилии царствуют девицы, почему это не должно быть правильным во Франции? То, что правильно, — правильно повсюду и во всех местах, и вовсе не место делает закон правильным». Эти аргументы в то время слышались повсюду, поскольку, домогаясь французского трона [для своего вождя], сторонники короля Наваррского требовали соблюдения салического закона, а Гизы добивались его отмены. Но если «аболиционисты» никак не могли договориться, кто конкретно должен взойти на трон, у мемуариста не было в этом никаких сомнений: Маргарита — «истинная королева во всем, достойная править большим королевством и даже империей».
Написав этот пламенный панегирик, соперник Плутарха и Боккаччо сделал еще один дерзкий шаг — послал свое произведение королеве, вероятно, в 1593 г. Это был период, когда Генрих IV, который уже обратился в католичество и вот-вот восторжествует над врагами, заговорил о разводе с Маргаритой — или, точней, об аннулировании их брака. К этому его подталкивали как министры, озабоченные отсутствием у него законных наследников, так и Габриэль д'Эстре, ставшая его любовницей в начале 1591 г. и претендовавшая на корону, потому что… король обещал на ней жениться. Дюплесси-Морне, которому было поручено провести переговоры, сделал в апреле королеве первые предложения, тогда как король примирительно заверил: «Я не упущу ничего, что, как полагаю, должно удовлетворить Вас, как в настоящем, так и в будущем»