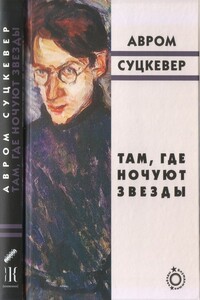На лавочника нападает страх, он боится поднять глаза и взглянуть в лица несчастных. Он только испуганно смотрит, как они выходят из лавки.
Один шагает скованно, словно не сам он делает шаги, а земля движется у него под ногами. Другой, хромой, сгибается на своей кривой ноге до самого пола и тут же выпрямляется, вскидывая обе руки, словно ища, за что можно было бы уцепиться, чтобы перестать хромать. У третьего, видно, парализовано тело, но шея и голова дергаются в конвульсиях. Четвертый… Пятый…
Хацкель видит, как морщатся его покупатели, их тошнит, они покидают лавку, заткнув носы. От нищих несет мочой и другими ароматами задних дворов и уборных, веет влажной затхлостью, словно в лавку втащили бочки с протухшими отбросами.
Хацкель не может больше это терпеть и начинает кричать, закрыв в ярости глаза:
— Почему вы не ходите в баню? Мыться почему вы не ходите?
И еще одно он хочет знать:
— Скажите мне, когда ваш день: понедельник или четверг? Дайте раз и навсегда знать, когда вы ходите по домам!
— В понедельник! — искажаются в рыдании десятки физиономий. — Наш день — понедельник!
— Ложь! — топает ногой Хацкель. — Сегодня понедельник, вот вы и говорите, что ваш день — понедельник. В четверг вы скажете, что ваш день — четверг. А когда мой день? Когда вы мне дадите заработать грош?
Лавочник вне себя. Он видит, что побирушки сейчас разнесут его имущество. Он начинает трястись от гнева и тыкает пальцем в двух попрошаек:
— Вы сегодня у меня уже были. Вы тоже. Знаю я ваши гнусные проделки. Вы выходите и снова становитесь в очередь.
— Дай нам Бог сегодня же легкую кончину, если мы были у вас с прошлого понедельника, — клянутся попрошайки.
Хацкель смотрит на них растерянно. В лавке не осталось ни одного клиента, а очередь нищих закручивается, как змея, без начала, без конца. Вот они уже заходят к нему не поодиночке, а парами, по трое, по четверо. Лед растаял, и Вилия вышла из берегов. Саранча обрушилась на Хацкеля, горе ему, горе! К нему идет Синагогальный двор, к нему идет богадельня, к нему идут все ночлежки и задрипанные переулки!
— Караул! — Хацкель рвет волосы у себя на голове. — Евреи, спасите! Они доведут меня до нищеты! Мне самому придется взять торбу и ходить по домам!
В полном отчаянии Хацкель хватает горсть медных монет и выбегает за порог:
— Быстрее! — подгоняет он растянутую цепь нищих, раздавая мелкие монеты. — Быстрее! Вижу, у вас есть время, как в субботу после чолнта. Отец наш небесный, эта цепь длинна, как еврейское Изгнание. И когда оно только закончится?
То, что происходит в продуктовой лавке Хацкеля, просто игрушки по сравнению с тем, что делается у ворот моей мамы. Но тут все как раз наоборот.
Прохожие осаждают слепого старичка и засыпают его подаяниями. Он понравился людям прежде всего тем, что не ходил с ордой попрошаек, а был сам по себе, следовал собственному пути; во-вторых, ясно видно, что когда-то он был состоятельным евреем и сам давал милостыню. Кроме того, он не требует денег нагло, как прирожденный попрошайка, он просит жалостно:
— Подайте слепому, подайте слепому!
И евреи, милосердные сыны милосердных, подают старичку со всех сторон и так поспешно, словно перед ними просто находка, словно им предоставилась возможность обрести место в грядущем мире по дешевке. Находятся любопытные бездельники, желающие узнать подробности:
— Вы погорелец, уважаемый?
— У вас внуки — круглые сироты?
— Вы не местный, дедушка? Где вы остановились?
На все вопросы у старичка один ответ:
— Подайте слепому, подайте слепому!
Вдруг к нему начинает проталкиваться какой-то человек. Он работает кулаками и наступает людям на ноги. Те оглядываются и видят еще одного старичка, который причитает:
— Что тут делается, что тут делается? Кто говорит, что он слепой? Это я слепой!
Первый бедняк, видно, вдобавок к своей слепоте еще и глуховат. Он хватает второго нищего за рукав и просит плачущим голосом:
— Подайте слепому, подайте слепому!
— Это вы, вы мне подайте. Я тоже бедняк, — кричит второй. — И я местный, а вы чужой. Я настоящий слепец, а вы лжец, вы притворяетесь. По вашему голосу я слышу, что вы не слепой.