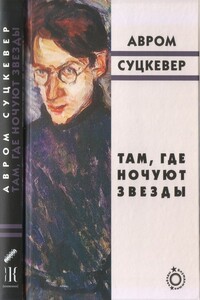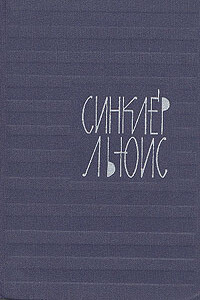Я закрыл глаза, немо качаясь вместе с ними, и почувствовал, что сливаюсь с этой восторженной сладкой тишиной. Я не издал ни звука, только улыбался себе самому и отирал пот со лба. Затем неслышными шагами я спустился по ступеням, не разбудив тишины пылающих подсолнечников, будто застывших в молитве восемнадцати благословений.
Выйдя на улицу, я заторопился: мне нужно взглянуть на закат в паутине на маминой двери во время молитвы «Неила», так же как вчера я был там на заказе перед «Кол нидрей». Не паутина там, мама, а золотая занавесь, а за нею — святая святых. В святая святых Шхина парила между двумя херувимами, а в твоей комнатке в пятничный вечер она покоилась между двумя бедными свечами в медных подсвечниках. Когда мы еще жили в нашей комнатке при кузнице, ты жаловалась, что больше чем две свечи по десять грошей ты не можешь позволить себе зажигать в честь субботы. Эти свечи тут же выгорали, и весь вечер коптила керосиновая лампа. Теперь, мама, свет твоих сгоревших грошовых свечей влился в золотую солнечную занавесь на твоей двери.
Однажды в детстве перед «Неилой» я убежал из молельни реб Шоэлки к монастырю на Рудницкой улице рвать с мальчишками каштаны. Мы перелезли на монастырский двор через высокую ограду с железными пиками, забрались на деревья и стрясали с толстых ветвей гладкие бархатистые каштаны в отстающей от коричневых плодов колючей зеленой скорлупе. Я вернулся домой, когда отец уже закончил обряд авдолы, — и исход праздника был испорчен. Отец долго не мог простить мне того, что я ушел из синагоги во время «Неилы». Мама часто рассказывала, как в тот вечер Судного дня выглядывала за занавеску женского отделения, искала глазами меня и сталкивалась с яростными взглядами отца, будто корившими ее за то, что я убежал из синагоги.
Монастырь на Рудницкой улице до сих пор стоит нетронутый, уцелела и высокая ограда с железными пиками, и на тех же старых деревьях снова густо висят зрелые каштаны. Но еврейские мальчишки больше не убегают ради них из молельни реб Шоэлки во время молитвы «Неила». Из тех мальчишек выжил только я, и я тороплюсь к твоему дому, мама, чтобы ты взглянула на меня сквозь золотую завесу твоей святая святых, взглянула сквозь паутину, висящую при входе в твой разрушенный дом, и увидела, что я вернулся к «Неиле». Только где взять силы, чтобы добежать? Я прошел полсвета, но этот путь между развалинами через несколько мертвых переулков длиннее и тяжелее. Боже! Я даже готов на время примириться с Тобой, только дай мне сил добежать!
Вход в дом мамы был открыт, изнутри смотрела темнота, как из глубокого высохшего колодца. Кто-то сорвал паутину, или ветер унес ее. Я не вошел в дом. Я неподвижно стоял во дворе, пока груды обломков не покрылись ночными тенями, а в небе не взошел молодой месяц, ожидая, что я произнесу благословение луне, как это делали богобоязненные обыватели из молельни реб Шоэлки после вечерней молитвы Судного дня.
Из темного провала квартиры вышла кошка и встала на пороге. Я вспомнил, как в Судный день перед минхой мама отрывалась от своего молитвенника и шла покормить столовавшуюся у нас кошку. Я подошел к этой замершей на пороге дикой твари не со страхом, как вчера, а доверчиво и по-свойски, как к старой знакомой. Она тоже не убежала, не стала плеваться, а подняла голову и с тоской и печалью взглянула мне в глаза. Я почувствовал, что лицо мое мокро от слез, и бестолково прошептал этой чужой одинокой кошке, оправдываясь за маму, которая оставила ее, божью тварь, голодать весь Судный день:
— Мама ушла в синагогу и не вернется, мама не может прийти с «Неилы», она не вернется, не вернется…