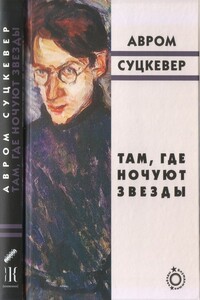С тех пор как я вернулся в Вильну, я скитаюсь по семи переулкам, в которых было гетто. Эти узкие переулки запутывают и морочат меня, как подземные коридоры и пещеры с древними могилами. Их осиротелость завораживает, их пустота звенит в мозгу. Они висят на мне, как семь каменных цепей, но я не хочу освободиться. Я хочу, чтобы эти цепи еще глубже врезались мне в тело, вошли в мою плоть. Я чувствую, как под кожу проникает мрачная стылость закрытых ворот и дверей. Выбитые окна смотрят моими глазами, и кто-то кричит внутри меня:
— И хорошо, что так! Я хочу стать руиной!
Это кричит дибук, реинкарнация развалин. Он поселился во мне после моего возвращения, и я больше не хозяин ни собственных мыслей, ни даже уст. Дибук говорит без перерыва. Я слышу каждое слово вселившегося в меня духа и умоляю его замолчать, но он продолжает свою речь, иной раз с яростным плачем, иной раз с горьким спокойствием, как скорбящий, который уже охрип от криков. А когда я хочу, чтобы он зарыдал, дибук утихает и молчит так громко, что я глохну, молчит угрожающе и преступно-загадочно, словно он и есть поджигатель, предавший гетто огню.
Теперь дибук во мне говорит: вот тебе за то, что ты вернулся домой. Там, в Средней Азии, высокие заснеженные горы, а тут обвалившиеся дома. Я ступаю по камням мостовой и чувствую, что иду по головам. У каждого камня свое лицо, своя маска. О, если бы сейчас меня хлестали по щекам пески пустыни Каракумы! Лучше бы я смотрел на пустынное дерево саксаул с вывернутыми ветвями и искривленным стволом, чем держал в ладонях пепел гетто и видел высокую черную печную трубу, которая пялится, как и я, в небо и спрашивает, как и я: почему? Если бы в трубе хотя бы выл ветер! Но даже ветер лежит отравленный, зарезанный. Пусто, тихо, мертво. В детстве я слышал от мамы, что в развалинах танцуют злые духи. Вот бы натолкнуться на шайку чертей, тогда я был бы уверен, что есть ад, а значит, воздаяние.
Остались стены, крыши, колонны, карнизы и балки, висящие, как на весах. Остались гнутые железные кроватки, ржавые детали примусов, кривые вилки, ножи, ложки. Остался я, но не осталось слез в глазах, похожих на оконные дыры без рам и стекол. Я не могу выдавить из глаз ни слезинки, слез нет, так же как в провалах окон нет ни одного еврея. Посмотрите! Целый ряд лавок, закрытых ставнями и засовами, целая улица с запертыми дверями и воротами. Кажется, где-то смеются, за глухими воротами кто-то давится смехом или заходится чахоточным кашлем.
— Открой, разбойник, открой!
Никто не смеется, никто не кашляет, никто не отвечает.
Вот так беспрерывно бушует во мне дибук, говорит без остановки, стучит моими кулаками в запертые ворота, и убитые кварталы отвечают стоном, жалуясь на то, что нарушают их мертвый покой. Изо дня в день я скитаюсь по одним и тем же семи переулкам второго, большого гетто. Было еще и малое, первое. Оно состояло из Синагогального двора и окрестностей. Тамошних евреев немцы перебили еще четыре года назад, с тех пор район пустует. Туда даже мой дибук боится меня тащить. Там жила мама.
Иногда я в задумчивости подхожу к выходу из гетто, туда, где были ворота. Один шаг — и я окажусь по ту сторону. Среди развалин темнеет быстрее. Отсюда мрак выползает в город, в котором гуляют, разговаривают и смеются люди. Вильна понемногу оживает. Вдалеке слышатся тяжелые мерные солдатские шаги. Играет военный оркестр, и солдаты поют. Там маршируют и поют победители, но гетто не дожило до победы. Я поспешно сворачиваю обратно в переулки. Я страж, которому нельзя уйти. Вот затаившаяся немота спрашивает меня: «Страж, что было ночью? Страж, сколько еще осталось ночи?»