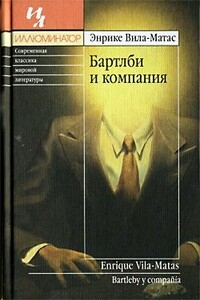– «Не в полной мере» – это ты что имеешь в виду? – тотчас спросила она.
Я понял, что сейчас все запутается непоправимо, и будет хуже, чем цунами со стометровыми волнами на Марсе.
– Беги, Мак, – услышал я голос.
И, не глядя на Кармен, принялся проворней вытирать тарелки. Она тоже старалась не встречаться со мной глазами, но вдруг разомкнула уста для сообщения, что все же запишется в «Марс Уан Фаундейшн». И принялась объяснять, что в ее годы претендовать на место кандидата в астронавты может выглядеть экстравагантно, однако она убедилась, что это не так. В конце концов, продолжала она, это было мечтой всей ее жизни, и она надеется, что я не стану чинить препятствий. Я видел, что глаза ее блестят и вот-вот прольются слезами. Чинить не стану, сказал я, мысленно проклиная ее бредовую страсть считать себя человеком науки, а не литературы, как если бы для утверждения своей личности надо быть полной противоположностью моей.
– Ты в самом деле не станешь возражать?
– Нет, не стану.
В конце концов, повторил я за ней, чтобы не рассвирепеть окончательно, я – Вальтер или, быть может, всего лишь стараюсь чувствовать себя Вальтером, однако дело все в том, что не следует преувеличивать ужасающий замысел моей жены. И тотчас предложил перемыть и вытереть всю оставшуюся посуду. Предложение было принято Кармен столь стремительно, что уже быстротой, что уже через несколько секунд я остался на кухне один – полновластным хозяином своей судьбы. Вытер стол тряпкой, а потом, раз уж начал, вымыл пол. Взял пакет с мусором, выставил было за дверь, но, после краткого раздумья, вынес на улицу. Ночь была очень сырая и замечательно звездная.
Свет в квартире не горел. Кармен была в ванной. Я подошел к двери и сказал, что это никакая не месть, но я тоже подумываю о путешествии в один конец. Не на Марс, а поближе, в деревню возле оазиса на краю пустыни – я недавно нашел ее, и, кажется, на картах место это не обозначено.
Кармен спросила, о чем это я.
– О том, что отправляюсь в никому не ведомую пустыню – и тоже без обратного билета.
Вместо того чтобы всполошиться от этой новости, она удивилась, что мой голос звучит как-то непривычно:
– Почему у тебя такой голос, Мак? Чужой какой-то…
Да нет, это мой голос, просто он все лучше приспосабливается к личности, которой я наделил Вальтера. Вот только мне и не хватало осложнить себе жизнь и пуститься в объяснения.
– Откуда? – повторила она.
Я понял, что скандал неминуем, и даже не попытался избежать его. Напротив, осведомился, не будет ли она возражать, если я, когда вот-вот разгорится наша оживленная дискуссия, буду записывать все сказанное, потому что потом мне приятно будет поразмышлять о случившемся.
– Ты хочешь записывать то, что мы скажем друг другу в запале? – чрезвычайно запальчиво спросила она.
И цунами обрушилось на Марс.
35 – это перевернутое 53, и это число заставило меня задуматься о том, как мало времени понадобилось Стендалю, чтобы создать «Пармскую обитель» – свой главный роман. А тридцать пять – это возраст, до которого дожил скончавшийся сегодня Альберт, хозяин булочной на углу. Он умер не от жары, обрушившейся на Барселону в разгар самого знойного за последние сто лет лета. Его сгубил нелепый выход из дому, тот отчаянный шаг, на который решаются иные: на рассвете, возвращаясь домой, он глупейшим образом попал под машину, чему виной стала, наверное, лишняя порция джин-тоника, выпитая перед тем, как покинуть «Императрицу», самый гнусный бар во всем Койоте.
Я подумал о ломкости и в сущности – о ненатуральности обволакивающей нас атмосферы, которая вовек не сможет даже притвориться своей, созданной специально для нас, и еще об этом безотчетном ощущении бездомности, неприкаянности, отсутствии уюта, словом, всего того, что вызывает в нас неодолимое желание вернуться домой, как будто такое возвращение возможно. Уоллес Стивенс, адвокат и поэт, сформулировал это гораздо удачней: «Вот откуда берется росток стиха: место, где живем мы – не наше, и больше того – оно – не мы, и тяжко это, несмотря на славу былую».
Лица, которые вижу в квартале Койот, а потом вдруг перестаю видеть, а когда через несколько месяцев вспоминаю их, мне горько сознавать, что их посетило нечто непоправимое, а то, что они не были ни моими друзьями, ни хотя бы знакомыми, может, быть может, символизировать самую суть бытия, хоть я и не вполне могу уразуметь это.