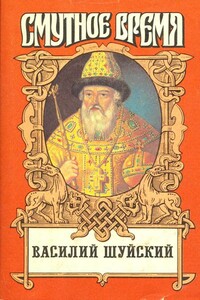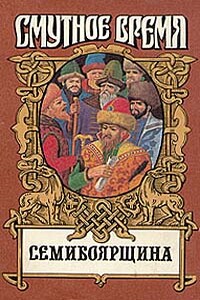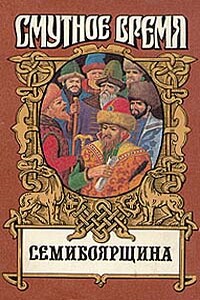После представления королю Димитрий поехал, или, вернее, его повезли, в палаты сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Обед был роскошен, вина лились рекой, и гости были веселы и наперерыв старались чем-нибудь угодить «будущему русскому царю».
У недавнего слуги, попавшего в царевичи, кружилась голова от тех знаков внимания и почтения, от тонкой лести, которыми он был осыпан.
Любезны были все, но всех любезнее — апостольский нунций Рангони. Он прямо называл Димитрия «царем московским», уверял, что в удачном исходе нечего сомневаться, советовал возможно скорее воссесть на прародительский престол.
После обеда он обнял, поцеловал Димитрия и, отведя в сторону от гостей, что-то долго говорил ему. В ответ «царевич» только кивал головой, подносил руку к сердцу и вообще всем видом показывал свое полнейшее согласие с речью папского нунция.
Краков спит. Улицы пустынны и тихи. Ночь лунная; длинные тени домов укрывают узкие улицы; только местами, там, где ряд домов прерывается, полоса лунного света врезается в темь — издали, глядя на дорогу, кажется, что там бежит какая-то светящаяся река — зато дальше, за полосою, мрак еще черней.
Тяжелые, мерные шаги гулко звучат в тишине. Это идет ночная стража. Вон в полоске света блеснула сталь солдатских алебард, блеснула и уже никого и ничего не видно: тьма скрыла отряд, только шаги звучат еще, но все глуше, глуше.
Едва замолкли шаги, две человеческие фигуры вынырнули из тьмы и вступили в освещенное луною пространство.
Это — мужчины; один высок, другой гораздо ниже. На них платье простолюдинов. У обоих лица закрыты плащами.
— Торопись, царевич, — промолвил высокий, — пожалуй, опять наткнемся на обход.
— Далеко еще, Мнишек? В этих проклятых улицах темно, как в аду — того и гляди, что наткнешься на что-нибудь и разобьешь лоб. А синяки, мне кажется, не совсем пристали сану царевича.
— Успокойся, царевич, — отвечал Мнишек, уже скрывшийся во тьме. — Вон дворец иезуитов.
— Ты, кажется, думаешь, что у меня кошачьи глаза?
— Неужели ты не видишь огонька, который там мерцает?
— Ах, вот эта-то желтая точка? Еще не близко!
— Святые отцы нас ждут. Пойдем скорей.
— Как ты думаешь, Рангони уже там?
— Да, наверно.
Путники замолчали и прибавили шаг.
Скоро скрип калитки возвестил, что они вступили в обитель отцов иезуитов.
Свет лампады падал на аналой с лежащими на нем крестом и Евангелием, на коленопреклоненного «царевича», на пробритую макушку головы склонившегося к нему иезуита.
— Ты мне исповедал грехи свои, сын мой, и Бог, по милосердию Своему, через меня, Его смиренного служителя, отпускает тебе их.
Димитрий перекрестился. По привычке он хотел, совершая крестное знамение, отнести руку от груди на правое плечо — по-православному, но спохватился и перенес ее на левое плечо — по-католически. От глаза иезуита не укрылась эта оплошность.
— Всем ли сердцем отрекся ты от схизмы, сын мой?
— Всем!
— Всем ли сердцем возлюбил ты истины нашей святой католической церкви?
— Всем! — повторил Димитрий.
— Благо тебе, чадо! С усердием ли будешь служить ей?
— С усердием!
— Будешь ли стараться пролить свет истинной религии во тьму ереси?
— Это станет целью моей жизни!
— Прочти «Credo»[6].
— Credo in Unum Deum Patrem… — торжественно начал читать «царевич».
Иезуит слушал, наклонив голову.
— Amen! — заключил Димитрий.
Патер взял с аналоя крест и Евангелие и поднес его обращаемому.
— Поклянись над этим святым Крестом Господним и над святым Его Евангелием, что не ради суетной славы…
— Не ради суетной славы… — повторял за патером Димитрий.
— Не ради корысти…
— Не ради корысти.
— Не ради иных ничтожных благ земных…
Царевич повторял.
— Но ради спасения души своей вступаешь ты…
— Вступаю я…
— В лоно истинной, апостольской, вселенской, католической церкви. В том целуешь ты святой крест.
— Целую святой крест…
— И святое Евангелие. Аминь. Теперь следуй за мной, сын мой, я проведу тебя в церковь, — сказал духовник «царевичу», когда клятва была закончена.