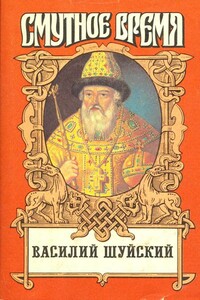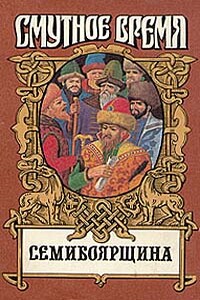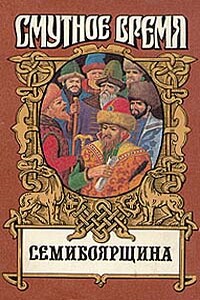— Где Семка?
Челядин руки развел:
— Не ведаю, княже, исчез.
Лицо Голицына помрачнело.
— Дворню на ноги подними, сыщи! В клеть Семку!
И забегал по горнице. Потом остановился перед монахом.
— Ты, Варлаам, уходи из Москвы. Немедля. Боюсь, не побежал ли Семка с доносом. Не случилось бы того лиха, что с Романовыми и Черкасскими. Спаси Бог!
И снова засеменил по горнице, заохал:
— Чуяла душа князя Василия Иваныча, упреждал, а я и без внимания. Ахти!
Взяв Варлаама за рукав рясы, забрызгал слюной:
— Почто стоишь? — Достал из кармана кошель, протянул рубль. — Отправляйся к князю Адаму Вишневецкому. По слухам, тот, кого ты за рубеж отвел, у него проживает. Сыщи его, челом ударь. Не монах это, а царевич Димитрий.
— Свят Боже! — Варлаам испуганно перекрестился.
— Поспешай, Варлаам, покуда приставы не заявились. Да заставы стороной обходи. Оставайся там и служи царевичу Димитрию.
* * *
Весть, с какой торопился во дворец боярин Семен Никитич Годунов, несла его, словно на крыльях. Развевались длинные полы шитого серебром кафтана, шапка сбилась на затылок. У Семена Никитича было такое ощущение, какое переживал он только на удачной охоте.
Нутром чуял боярин Годунов, что сказанное голицынским воротным мужиком должно привести к самому князю Василию Васильевичу. Но прежде пусть приставы приведут того монаха. Под пыткой покажет, по чьему указу и с кем ходил за рубеж.
Взлетев на Красное крыльцо, боярин захлопал дверьми.
— Государь, — запыхавшись, выпалил он, — к Голицыну Ваське измена ведет!
— Ну? — Борис как был в исподней рубахе, так и вскочил с ложа. — Откуда прознал?
Семен Никитич дух перевел, прижал ладонью сердце:
— Голицынский воротный намедни явился, поведал. У Васьки монах по имени Варлаам проживает. И тот монах похвалялся, что в Литву ходил.
— Схватили того монаха? — сурово спросил Борис.
— Послано за ним, государь.
— Допрос с него сымай с пристрастием. Все, что монах обсказывать будет, записывай. Ежели на Голицына либо на кого иного укажет, хватайте тех людей и волоките в пыточную. Эко, одного поля ягодки, Романовы, Голицыны и иже с ними. Недруги были они нам, Годуновым, недруги и есть.
— Я, государь, нутром чую, откуда слухи о Димитрии выползают.
— Пересилим, Семен Никитич, не таких гнули, свалили. Мы, Годуновы, крепкие. — Борис зло скрипнул зубами. — Ты токмо допытайся, Семен Никитич.
* * *
Всю ночь в Самборском замке сандомирского воеводы Мнишека гремела музыка. Седоусые паны и седые пани, молодые, бравые шляхтичи и веселые паненки лихо носились в удалой мазурке, отбивали каблучками краковяк и плавали в полонезе.
В коротких перерывах не успевали передохнуть. Шумно было на балу у пана Юрия Мнишека. Но больше всех радовалась Марина, дочь воеводы.
Невысокая, тонкая в поясе, с копной темных волос и карими глазами на белом лице, она была весела, танцевала с гостями — со всей округи съехались они ради нее.
За восемнадцатое лето перевалило Марине. Она улыбалась всем, кроме Григория Отрепьева.
Прижавшись к высокой колонне, он смотрел на праздник со стороны. Отрепьев не гость, он слуга князя Адама Вишневецкого, который приехал на бал вместе с женой, сестрой Марины, старшей дочерью воеводы Мнишека.
Вздыхал Григорий. Пылкая молодость неугомонна: Марина полюбилась ему с первого взгляда. Он ревновал ее ко всем. У него было желание выйти на середину зала, остановить музыку и крикнуть во весь голос: «Не Григорий я и не слуга князя Адама, а русский царевич Димитрий, сын царя Ивана Грозного!»
Но он глушил в себе это. Разве поверит ему шляхта? Паны будут глумиться над ним, зубоскалить.
Волоча ногу, Отрепьев отошел от двери и снова возвратился на прежнее место. Подперев плечом колонну, посмотрел в зал, но опять увидел одну Марину. Григорий до боли кусал губы, дожидался, когда Марина мимо пройдет, и чуть слышно позвал:
— Панночка Марина!
Она услышала, остановилась. Зачем окликнул ее этот слуга князя Адама? В ожидании Марина недоуменно глядела на него.
— Панночка Марина, — выдохнул Отрепьев, — кохана моя!
— О-о! — подняла брови Мнишек. — Холоп Григорий забыл, что я дочь воеводы!
И, уходя, презрительно скривила губы. Отрепьев бросил ей вслед: