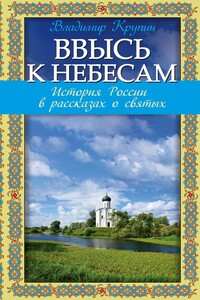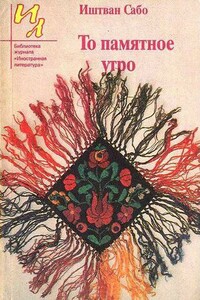– А ты что не одеваешься?
– Еще побудем.
– Как ни тяни – время. Время идти. Время кончилось.
– У любви нет времени.
– Правда, нет. Но у свидания оно есть.
– Так пусто будет в городе без тебя.
– Я даже не знаю, как я живу без тебя. Особенно когда
мы в одном городе. Куда иду, что делаю? Даже не как во сне, а как живой
автомат. Сделаю что-то хорошо – ах, если бы ты видел меня, похвалил бы... Ну
вот. С местечка! Пошли?
– Почему жизнь делает все, чтоб мы были вместе так
мало?
– Может быть, бережет. Вдруг бы мы надоели друг другу?
– Вот и твоя очередь быть глупой.
Мы уже вышли на площадку и идем вниз. Какие-то узкие, серые,
прямо Достоевские ступени. Двор. Кошка, меряющая прыжками его диагональ. Арка,
за ней светло и улица.
– В губы не целуй... ну вот, подожди. Пока не вышли, я
знаешь что хочу попросить? Ты меня когда разлюбишь, то прошу об одном – не
забывай.
– Это все равно что себя забыть. Я тебя везде с собой
вожу. Ты и здесь, и здесь, вся во мне. Уже не отделить, только с мясом. Это я
тебя должен просить, чтоб ты помнила.
– Нет, уже поздно. Ты же знаешь, я сопротивлялась, как
могла, я же знала, что это мучение, что все пойдет иначе.
– Жалеешь?
Она долго молчала. Мы шли сквозь толпу как по высокой траве.
– Поздно жалеть. Только одно: где мы раньше были? Ой,
как поздно!
– Поздно жалеть или поздно встретились?
– И то, и другое.
Около костела горели в плошках черные фитили. Зазывала с
мегафоном соблазнял мессой.
– С тех пор как я поняла, что люблю тебя, во мне все
время звучит музыка. И знакомая, и какая-то своя. У меня при музыке все нервы
встают на цыпочки. И все время стихи. Осколок луны, зимний сад, река, дети на
берегу. И обязательно тепло и солнце. Я женщина лета. Это от печки в детстве. Я
ее звала «вторая мама». Мама рассердится, что долго на улице была или еще что,
а я на печку и там сижу.
– У Платонова вторая мама – первая учительница.
– О, я обречена была стать учительницей. У меня было
десять кукол, делала с бабушкой, на каждую куклу заводила по четыре тетрадки,
их заполняла. Ставила оценки, проверяла домашние задания, домашние задания
писала за каждую куклу.
– Были отличники, любимчики, да?
– Н-не помню, вряд ли. У нас была такая строгая, еще
довоенная, старушка Прасковья Павловна, такая подтянутая, платье с кружевами у
ворота и на рукавах. Выходит из школы, мы у крыльца, кричим: «Чур, моя левая,
чур, моя правая». Это о том, кто за какую руку ухватится. Тетрадки ей несли.
Она мне подарила старый, использованный, но настоящий – это такой
восторг! – журнал. Это были все мои ученики. Там, в конце журнала адреса и
родители записаны, я всех «навещала».
– Это у тебя учительское – не тебя надо под руку вести,
а ты сама ведешь.
– Может быть... Все. Дальше не провожай. И не смотри
вслед, я всегда чувствую. Я ночью просыпаюсь и знаю, что ты проснулся. Особенно
когда луна. Недавно стояла на балконе, луна так быстро летела, что у меня
голова кружилась. А это облака и ветер там, вверху.
– У меня постоянное состояние ожидания ужаса, то есть,
проще говоря, я все время готовлю себя к тому, что ты меня разлюбишь. Я же
умру.
– Живи долго.
– То есть не разлюбишь?
– Нет. Я тебе полчаса назад говорила, что прошу не
забывать, если даже разлюбишь.
– Полчаса! Вечность назад, вечность. Это была другая
жизнь. Ты когда одевалась, не смотрел бы, ненавижу все это, все эти модные
чехлы: свитера и юбки эти. Пальто вообще непробиваемое. Я мужчина, я должен
быть стальной, а я говорю, что боюсь остаться без тебя, боюсь. Все помертвеет,
почернеет. Я не знал, что так бывает, что вся чехарда донжуанских списков не затмит
одного твоего такого взгляда. То есть... Можно я договорю? Я должен быть готов
к... к твоему отсутствию. Умолять, цепляться, конечно, не буду. Что я тебе? Что
тебе, кроме страданий, от меня?
Она, уже совсем подводившая меня к краю тротуара у перехода,
к пока красному огню светофора, уже вздохнувшая глубоко и, видимо, этим вздохом
настраивающая себя к решительному движению через дорогу уже в одиночестве,
остановилась и дернула меня в сторону от перехода.
– Знаешь, солнышко, искусство игры в страсть нежную не
для меня. Ты можешь издеваться, бросить, при мне ухаживать за другой – я тебя
не разлюблю. Я же знаю себя. Это же не пустые слова: жить любовью. Я живу твоей
любовью. Если она кончится, я буду жить любовью к тебе. У меня всегда только
одно: лишь бы ты жил, был бы здоров, чтоб с тобой ничего не случилось. Я ставлю
свечку за тебя и ставлю свою рядом. И гляжу на них. Вот они горят, вот моя
скорее, нет, ты догнал, обе тихо оседают, но им не дают догореть – старуха
приходит, и гасит их, и кидает огарки вниз, в ящичек, ставит на наше место
другие. Я молюсь и за тебя, и за себя. Я вся грешная, я думаю только, пусть все
мои грехи отразятся только на мне, пусть твои грехи тоже будут на мне, я прошу
у Бога одного: любить тебя, пока живу. Иной раз страшно: стою в церкви и думаю
не о Боге – о тебе. Может, в этом суть женская? Вот ты со мной, ты надо мной,
ты же закрываешь для меня все: и пространство, и потолок, и небо... Тебе нечего
бояться, ты мой единственный мужчина. Я лечу, когда я с тобой, я умираю, когда
долго тебя не вижу. – Она то снимала, то надевала тонкую мягкую перчатку
на левую руку.