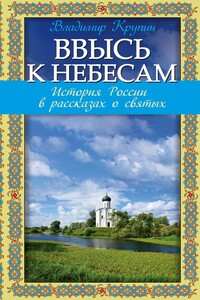– У меня все так же, может, проще, я же мужчина, а
примитивнее мужчин только инфузории. Мне так тяжело, что через минуту все
почернеет, даже эта дорога станет прошлым. Как мне вернуться в дом, где тебя
нет? Воспоминания старят, надежды оживляют, любовь спасает. Я так в тебе все
помню, каждый сантиметрик, твои губы, вот они уже тоже зачехлены краской,
твои... все!
– Только не гляди вослед.
– Как я могу не глядеть?
Я сильно, даже непростительно сильно сжал ее руки, слезы
выступили на ее глазах.
– Прости, это от отчаяния разлуки.
– Это не от боли.
Она пошла, она перешла дорогу, остановилась, оглянулась и
подняла руку.
И исчезла.
Единственное, чем я мучился первые минуты без нее, это тем,
что говорил какие-то глупости про зачехленные краской губы, про ее
«сантиметрики»... Да это ли важно было? Я стоял один. И она ушла одна. То, что
было целое, совокупное, – мы, где это было? Ну хорошо, думал я, запинаясь
за свою тень и чисто по-мужски себя утешая, а были бы все время вместе, тогда
как бы? И тут же понимал, что с нею было бы хорошо все время. Пусть бы я
вредничал, говорил и совершал глупости, она бы знала, что это я оттого, чтоб
чересчур не радоваться. О, я уже хорошо знал возмездие после радости.
Поверх одеяла, не снимая куртки, упал я на кровать, теперь
такую просторную, такую сиротливую, такую холодную. Хорошо, что тогда купил ей
подснежники. Как она обрадовалась! Хорошо, что у тетки не было сдачи и я купил
подснежников на всю бумажку. Как бережно, торопливо сняв перчатки, приняла она
букетики в теплые голые ладошки, как аккуратно ссыпала их в сумочку, как
сдернула с шеи шарфик и укрыла подснежники сверху Подняла счастливое лицо.
«Скорее домой! Скорее их от ниток освободить, скорее в воду». И шла торопясь, и
так несла сумочку, будто котенка купила и уже была ответственна за его жизнь.
Я сел на кровати. «Что ж ты сегодня-то, сейчас, на прощание
ей цветов не купил? Забы-ыл! Ведь подснежники эти – это прошлая весна, это...»
Я ходил по комнате и говорил вслух. В ванной большое светло-зеленое полотенце
еще было влажным.
Прошлая зима – это давно? Это вчера. Эти подснежники, как
она помнила их! Она даже говорила: «Знаешь, для меня твой запах – это запах
подснежников. Когда я принесла их домой, развязала, ставила в чашки и вазы,
чтоб им было посвободнее, их оказалось так много, такой был запах, прямо
благоухание. Лучше только ладан в церкви. Они так долго стояли. Так тихо. Ночью
проснусь, протяну руку к столику, их коснусь... они чувствуют, еще сильнее от
них аромат».
Не могу и не вспоминаю, как я проживал дни и недели разлук,
как перебредал сухое и голое пространство времени без нее. Я будто впадал в
автоматизм делания обычных своих дел, будто во сне шел от взлета дня до его
падения. Я очень не хотел, чтобы она снилась мне, потому что потом мучился
состоянием внушенной сном реальности и пробуждением в реальности жизненной. Все
было ожиданием ее. Если она просила звонить в четверг, а сегодня понедельник,
то зачем жить вторник и среду? И как жить? А если еще в четверг не
дозванивался, все чернело.
«Я всегда знаю, когда твой звонок, – говорила
она. – Я всегда знаю, когда ты встаешь, ложишься, когда тебе плохо или
хорошо...» – «Мне без тебя всегда плохо». – «Не всегда. – Она
улыбалась не как другие женщины, любящие улыбкой уличить мужчину в лукавстве, а
прощающе, коротко взглянув и обязательно легко коснувшись рукой. – Не
всегда. Рад же ты, когда слышишь хорошую музыку. Ты скажи про себя мне: ты
слышишь? Я услышу». – «Да-да, – я тут же соглашался с нею, – это
так, я тоже настроен на тебя, как мой приемник на классическую музыку. Я
недавно сбил настройку, кручу-кручу – все крики, реклама, трясучка, эстрада,
хрипение или вой, мурлыканье какое-то, какие-то комментаторы. „Алло, говорите,
мы вас слышим“... Нет моей волны. Но, слава богу, нашел, настроил. И вот звучит
только она. Хотя визги и хрип и хамство мира продолжаются. Но их для меня нет.
Так и ты – ты есть, и все».
В письме она писала: «Ведь я молилась, чтоб ты полюбил, это
же грех, за это же придется платить. Молила и вымолила. Все время хочу, чтоб ты
меня любил. Грех ведь. А ничего не могу сделать. В отрочестве, в девчонках,
бегала на свидание к дереву у реки. Там обрыв, и я любила потом девчонкам
говорить: „У меня прямо сердце обрывается“. Но это было так наивно, так
приблизительно к тому, что с тобою. Сердце уже не просто обрывается, а вот-вот
оборвется. Но ведь надо же платить за все, а за счастье особенно...»