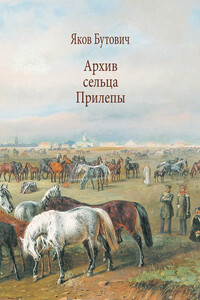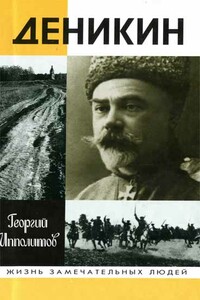Почему, хотя бы с изъятиями, «Воспоминаний коннозаводчика» не опубликовали, когда пал культ сталинской личности? Если для данного издания потребовалась некоторая редакторская хирургия с отсечением слишком специально-коннозаводских кусков, то уж, конечно, нашлись бы в те времена умельцы обезвредить текст политически, да так, чтобы и швов не было заметно. Однако и в послесталинские годы «Воспоминания коннозаводчика» не вышли, хотя в ту же пору многое, дождавшееся своего часа, увидело свет, хотя бы в препарированном виде. Но как ни сокращай, нельзя же удалить авторское имя, а это имя для кого-то персонально было неприемлемо.
Тюремные тетради Бутовича сохранил директор Пермского конзавода В. П. Лямин, получил он их, по словам его близких, от самого Яков-Иваныча, но при каких обстоятельствах и точно в какое время, можно лишь предполагать. А почему именно Лямину решил довериться Бутович, пока и предположить невозможно: ведь конвоируемый специалист-мемуарист не рукопись незаметно из руки в руку сунул, а отдал целый рукописный склад. Как бы то ни было, Лямин рукописи сохранил. Заслуга его и в том, что он, человек опытный, вел себя осторожно, не «звонил» попусту, создавая ажиотаж. Но если о «ляминских тетрадях» услышал я от Грошева в середине 50-х, значит, уже тогда об уцелевших рукописях Бутовича знали от Перми до Москвы. С кем-то из тех, кому Лямин доверял, он, не исключено, советовался, не следует ли хотя бы что-то опубликовать. О хранении материалов расстрелянного за антисоветскую деятельность должны были знать, вне сомнения, и власти предержащие.
Думать, что руководитель советского предприятия, коммунист и орденоносец, держал хранившиеся у него обширные антисоветские материалы в секрете от тех, от кого секретов у него быть не должно, – это по условиям времени мне, жившему в то самое время, представляется невероятным. Тем более что хранение тетрадей секретом и не являлось, а донести на хранителя ничего не стоило, и если бы в Перми или Москве нашлись желающие затеять дело, Лямин подверг бы себя самоубийственному риску.
Скорее всего, «органы» доверяли хорошо проверенному, заслуженному ответственному работнику. Не тронули его тайные сокровища, быть может, ознакомившись с материалами, им хранимыми.
В 70-х годах я сделал попытку напечатать очерк Бутовича о «Холстомере» в «Литературном наследстве», издании Академии наук СССР. Академические власти не согласились, но не по причинам политическим, хотя я мог бы сказать: «Власти не захотели печатать». Почему не захотели? «Репрессированный помещик написал!» – можно бы ответить по трафарету. Нет, помещик, хотя бы и репрессированный, был не при чем. Рукопись Бутовича в свое время, в 30-х годах, читал крупный ученый-литературовед, прочитал, использовал в своем труде, а сноски на Бутовича не сделал. «Вы хотите бросить тень на видного ученого?» – спрашивают меня научные власти. Нет, этого я не хотел. «Ну, – говорят, – тогда о чем же речь?».
Так было, я думаю, и с «ляминскими тетрадями». Опубликуй их, и пала бы тень на специалистов, продолжавших занимать видное положение в конном мире, или на их последователей, сторонников и, наконец, родственников, тень задела бы вообще всех, кто так или иначе был с теми же влиятельными специалистами связан и многим им обязан. А высокопоставленные покровители Бутовича если не уходили из жизни естественным путем, то по ходу непрекращавшейся борьбы за власть оказывались удалены из большой политики.
Насколько подобная ситуация тоже типична, я знаю всё из того же из семейного опыта. Когда Бутович обращался к Муралову, к нему же, оттесненному от политического руководства в ректоры Тимирязовской академии, ходил мой другой дед, сельский учитель, бывший эсер, лишенец, вычищенный со службы как представитель нетрудовой профессии. Муралова он знал с тех времен, когда они вместе заседали в Московском совете народных депутатов, и пошел эсер к большевику просить за сына, моего отца: сын лишенца не имел права даже экзамены держать в столичный вуз. «Ничем не могу помочь, – сказал Муралов, – сам на ниточке вишу». Ниточка вскоре и оборвалась.