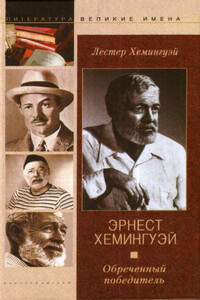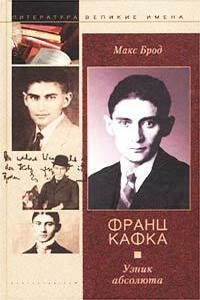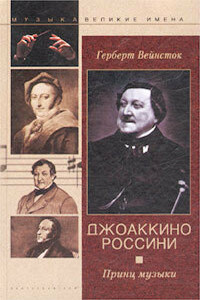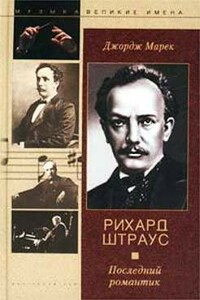Однако Аннабелла продолжала слать Байрону свои серьезные письма. Он немного испугал ее, но одновременно и разжег ее интерес, сказав, что хочет увидеться с нею, туманно намекнув, что хотел бы поговорить о личных делах. Аннабелла начала советоваться с родителями, когда лучше всего пригласить Байрона в Сихэм. Относительно слухов, что она отказала ему во второй раз, Аннабелла написала: «Чтобы избежать возможности оказаться в подобной ситуации, должна признать, что не отказывала вам». Так Аннабелла довольно хитроумным способом дала Байрону понять, что хотела бы услышать его предложение. Байрон понял ее правильно. 15 марта он записал в своем дневнике: «Получил письмо от Беллы и ответил на него. Могу снова влюбиться в нее, если не буду осторожен».
Необычайно холодная зима еще больше удручала Байрона, потому что он всегда испытывал недовольство, если не мог прокатиться верхом в солнечную погоду, как в Греции. Чтобы поддерживать себя в форме, он снова занялся боксом со своим старым другом и спортивным наставником Джексоном. «Моя грудь, руки и дыхание в очень хорошей форме, и на мне нет ни грамма жира, – записал Байрон, – у меня сильный удар, но руки слишком длинны для моего роста (5 футов 8,5 дюйма). Но в любом случае упражения идут мне на пользу, а бокс – самое суровое упражнение…»
28 марта Байрон переехал на первый этаж Олбани-Хаус на Пикадилли. Это оказалась просторная квартира, длиной около тридцати или сорока футов, которую Байрон взял в аренду у лорда Олторпа сроком на семь лет.
2 апреля Байрон отправился в Сикс-Майлз-Боттом, будучи не в силах противиться желанию Августы, которая была одинока и волновалась за него. Он гостил у сестры до 7-го числа. 5-го Хобхаус и Скроуп Дэвис ожидали его в Кембридже, но Байрон туда не поехал. Вернувшись в Лондон, он писал леди Мельбурн с насмешливой серьезностью: «Полковник Ли был в Йоркшире, жаль, что мне нечасто его приходилось видеть».
Байрон, бездумно восхищавшийся Наполеоном еще со школьных дней в Хэрроу, где выступал за возведение памятника ему, был поражен известиями о поражении и отречении Наполеона от трона. «Я запомню этот день! – написал Байрон в дневнике. – Наполеон Бонапарт отрекся от мирового престола… Увы! Этот царственный алмаз оказался с изъяном…» Несмотря на хвастливые заверения, что больше не будет печататься, Байрон все-таки сочинил за один день «Оду Наполеону Бонапарту» из девяноста строк и отправил ее Меррею. Хотя она была опубликована анонимно, посвящение Хобхаусу выдало ее автора, и вскоре об этом произведении заговорили в городе.
Тем временем Хобхаус намеревался отправиться в Париж, «где еще живы были воспоминания о Наполеоне». Байрону понравилось это предложение, и он согласился сопровождать Хобхауса, однако долг перед сестрой заставил его отказаться от поездки. После тревожного ожидания он узнал, что 15 апреля Августа родила дочь. Она назвала девочку Элизабет Медора[16]. Возможно, леди Мельбурн спросила Байрона, был ли оправдан риск, который влекла за собой эта связь, потому что его ответ был таков: «Конечно, оправдан! Не могу сказать вам почему, но это не позерство, а если и так, то только по моей вине. Однако я обязательно исправлюсь. Но вы должны признать, что никто меня не любил и наполовину так сильно, а я всю жизнь пытался завоевать чью-нибудь любовь, и никогда мне не удавалось получить то, что я хотел. Но мы определенно изменимся в лучшую сторону, мы уже стали лучше, и так будет эти три недели и впредь».
Переписка Байрона в этот период отражает его угнетенное состояние. Он по-прежнему не мог решить, вернуться ли к Августе или принять приглашение в Сихэм. Он писал Муру: «Я купил пальму макао и попугая и пополнил свою библиотеку. Я занимаюсь боксом и фехтованием каждый день и очень мало выхожу в свет». Пальма и попугай были первыми жильцами странного зверинца, состоящего из животных и птиц, которых Байрон приобрел в последующие годы, чтобы спрятаться от человеческого общества и найти выход для своей постоянной мизантропии.
Когда из Сихэма пришло официальное приглашение, Байрон начал опасаться возможных последствий. Он говорил леди Мельбурн: «Если она воображает, что мне особенно нравится обсуждать постулаты святого Афанасия или болтать о рифмах, то, думаю, она ошибается… Сейчас я не влюблен в нее, но не могу утверждать, что этого не случится позже, если наступит «теплый июнь», как говорит Фальстаф, но я восхищаюсь ею как благородной женщиной, несколько обремененной добродетелью…»