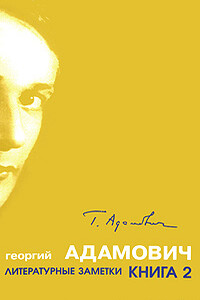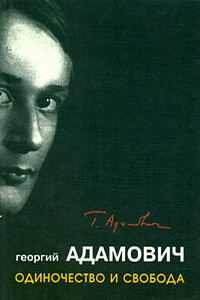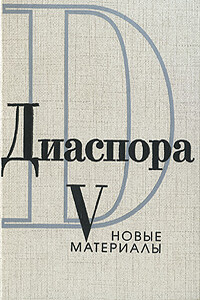Следовало бы сделать несколько замечаний о «словотворчестве». Но тема эта слишком специальна. Упомяну лишь о Лескове и о поклонении ему. Кто спорит, Лесков интереснейший писатель, — но ведь не Достоевский, даже не Тургенев и не Писемский, даже не Чехов и не Гончаров. Обыкновенно говорят: «У Лескова удивительный язык». В «Дяде Ване» кто-то замечает: «Если у женщины находят удивительные волосы, она наверно некрасива». Это приблизительно то же. У Лескова, действительно, по сравнению с общим его даром, язык очень богат. Он выделяется, удивляет. Но языка для писателя мало, и стиль создается из языка плюс многое другое, чего у Лескова и в помине не было. Толстой, может быть, словесно беднее Лескова, но стиль его неизмеримо выразительнее и крепче. Подозрительно было внезапное пристрастие к Лескову. Не говоря уже об односторонности его, оно свидетельствовало о понижении умственно-душевного уровня. От одного из серапионов я когда-то слышал, что к Лескову он обратился, «устав» от Достоевского. Достоевский, видите ли, скверно пишет, Лесков же — это «золотые россыпи языка». А что с одними этими россыпями далеко не уедешь, мой серапион не хотел и слушать.
Изменилось ли что-нибудь теперь? Можно решительно сказать — да. Всев. Иванову, Зощенке, Леонову, Бабелю, Булгакову, даже Пильняку явно опостылело словесное баловство. Они еще не все и не всегда пишут «просто» (наибольшего достиг Бабель, да, пожалуй, Зощенко — и любопытно, что это писатели со сравнительно ограниченными дарованиями). Но нельзя, понятно, «простоту» отождествлять с безличностью, с унылой и бесплодной гладкостью. Писатель выражает свое отношение к миру, или, как говорят теперь на нашем ужасающем литературном волапюке, «выявляет себя». Все неясное, неустановившееся, непонятное должно отразиться в стиле, и бессмысленно тут было бы протестовать. Эта нестройность, может быть, и прекрасна, если оправдана творческой необходимостью. «Не читать» — право каждого. Но у тех, кто читает, есть столь же неотъемлемое право требовать, чтобы их не угощали ничего не стоящими подделками «под классиков». Все мы слышали призывы «назад к Пушкину!». Кто вдумается в этот призыв, поймет, конечно, что возврат механический, внешне-формальный ничего доброго с собой не принесет. Не «ясности» надо учиться у Пушкина (ибо ясность его хороша только тем, что она бездонна и является в гораздо большей степени счастливой особенностью пушкинского гения, чем художественным методом), — но тому, что «служенье муз не терпит суеты». Вот это действительно завещание и наставление Пушкина.
Будет ли всегда «прекрасное величаво» — предсказать нельзя. По характеру эпохи, по личным свойствам автора оно может оказаться непривлекательным, бесформенным. Но если в нем не будет «суеты», то не будет и ничего, кроме души автора, мира, лежащего перед ним, и слова, оживленного стремлением с наибольшей чистотой и правдивостью передать их взаимную связь. И уж конечно, всевозможные словесные «орнаменты», «слова, как таковые» и прочие пустые выдумки последних лет отпадут сами собой. Это мы и замечаем теперь.
Очень жаль, что московские читательские массы не понимают Леонова, а понимают бездарного Гладкова. Полезнее все-таки было бы понять хоть немного у первого, чем все — у второго. На беду, искусство великое и искусство лубочное внешне похожи, и Гладков пишет «совсем как Пушкин». Но внутренне их разделяет пропасть. Это как бы два конца согнутой в круг дуги: они почти сходятся, но нельзя перескочить с одного конца на другой, надо проделать весь путь обратно, спуститься и вновь подняться. Вот лучшие из наших новых писателей и начинают «подниматься». Неудивительно, что они после всех потрясений еще сбиваются с пути и блуждают. Они сами этим тяготятся, не знают, куда и как идти, и за стилем их скрываются иные, более глубокие сомнения. Когда прояснится сознание, очистится слог, — не раньше. Но «сие буди, буди».