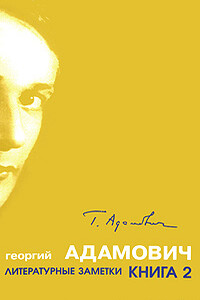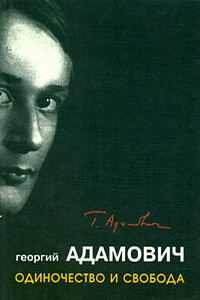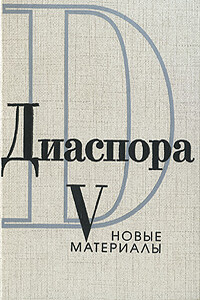Большинство Серапионовых братьев — Лунц, Каверин, Никитин, Слонимский, Зощенко и др. — были учениками Замятина, притом в самом дословном смысле: они занимались у него в «студии». Замятин пользовался тогда славой исключительного, блестящего мастера, и даже вечно-насмешливый Шкловский не без почтения слушал замятинские объяснения, как «делается» новелла или какой «концовкой» надлежит заключать рассказ.
Тогда вообще распространилось убеждение, что все «делается», и стоит только пройти курс литературного ремесла, как немедленно станешь писателем. Замятин, наделенный умом, энергией и талантом, был беднее всего одарен чувством слова, и словесная его Изобретательность была довольно ограниченна. Как часто бывает с людьми, он особенно приналег на то, к чему менее всего способен. Он счел себя последователем Ремизова,
Лескова и чуть ли не протопопа Аввакума, обновителем слога и языка. Вместе с этим в его причудливой голове уживалось пристрастие к американизму и представление, будто западная культура состоит теперь главным образом из аэропланов, трестов и всевозможных радиочудес. В окружении Замятина говорилось о необходимости «уловить бешеный темп современного города», но одновременно изучались летописи и жития святых. Сам Замятин сумел все эти разноречивые стремления сплавить в одно целое.
Но ученики его растерялись. Ограничимся пока только стилем, так как именно он нас сейчас интересует.
«Серапионовы братья», или короче — серапионы, вообразили, что писатель должен писать «художественно» и что одна из первых обязанностей его — «словотворчество». На заседаниях и собраниях они разбирали рассказы членов своего кружка, останавливаясь на каждой фразе. Кто-нибудь написал: «Восходит солнце…» Боже упаси, нельзя так писать! Это плоско, это не художественно! Надо было сказать: «Алый, огневой шар медленно плыл» и т. д. Кто-нибудь написал: «Зимний дворец был взят». Какой ужас! Следовало написать: «Грозная, ощетинившаяся штыками, масса бросилась вперед. И воздух затрясся от рева. И Зимний пал…» Этого мало. Речь уснащалась и обогащалась словами только что образованными или где-нибудь подслушанными, свежими и горяченькими, как первый блин, словечками, «кряжистыми», «сочными», «почвенными», «нутряными», не помню, какими еще.
В эти же годы расцвел имажинизм, возвестивший, что нет спасения вне «образа» и даже метафоры. Есенин читал своего «Пугачева», где мужики «цедят соломенное молоко ржи», а императрица Екатерина разбивает «кувшин головы» своего мужа. Появились и первые повести Пильняка, где словесное жеманство тонуло в безотчетном и беспредельном лиризме, и не было ни тому, ни другому удержу.
Перелистывая теперь эти вещи, мы, конечно, соглашаемся: «невозможно читать», — как бы талантливы отдельные авторы ни были. И не оттого невозможно, что непонятно, — о, нет! — а вот почему.
Основное, существеннейшее, единственное условие всякой «художественности» состоит в том, чтобы стремление к ней оставалось незаметно, и достигалась она как будто сама собой. Это не значит, конечно, что в искусстве не должно быть усилья, ремесла, отделки. Нет, но усилье подлинного художника направлено к тому, чтобы скрыть все «швы», спрятать все концы в воду. Пушкин писал «просто», но по черновикам его мы знаем, чего эта простота ему стоила. О толстовском «Хозяине и работнике» люди, ничего никогда не писавшие, говорили: «я бы, кажется, написал именно так», — и хотелось ответить: «попробуйте». С простоты не начинают в искусстве, ею кончают. Нельзя было предъявлять подобные требования к имажинистам или серапионам. Но можно и надо было требовать хоть первых признаков разборчивости, самоограничения в отклонениях речи, отвращения к бессмысленным ее украшениям. «Всходило солнце»… Фраза не плохая и не хорошая, не художественная и не противохудожественная. Она может встретиться в обыкновенной статье и в величайшем создании искусства — впечатление зависит от связи с другими элементами написанного, от подчинения ритму и замыслу. Из одного и того же кирпича строится тюремная стена и готический собор. Но «алый огневой шар» — это кирпич в кружевах и цветочках, это чушь, из которой ничего создать нельзя и которая ни в одном долговечном произведении искусства не встретится. То же следует сказать обо всех «смелых образах» и «ярких метафорах» тех лет. Если даже они бывали остроумны, все же нарочитость бросалась в глаза, и нужна была исключительная словесная убедительность, чтобы ее сгладить, перевесить. Человек сколько-нибудь требовательный к искусству вовсе не склонен искать в нем красивости. Он раздражается, как только почувствует, что с ним говорят «картинно». Он избегает кокетства, он уклоняется от впечатления. И только красота неразложимая и неотделимая, где нет побрякушек и все как будто подчинено закону необходимости, т. е. не наряд, а самая плоть вещи его действительно прельщает. Поэтому «художественный слог» во всех своих разновидностях для него невыносим до тошноты.