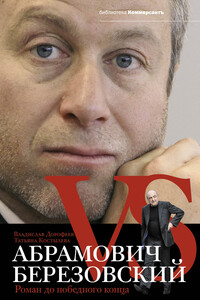Зря, что ли, Иванов, как пришёл в тюрьму работать, так купил нашармака машину. И лоснится теперь так, что на себя стал не похож.
Наседка
В иных случаях, как говорят, бабушка надвое сказала, но тут сомнений не было, в тюрьме об этом знали все. В прогулочных двориках чуть не на каждом шагу стены были испещрены надписями: «Гунтис Бутка – подсадная утка».
Складно выходило.
Бутка – это самая что ни на есть фамилия. Родом он из небольшого городка Кулдиги, а от роду – лет тридцати пяти. Чахоточный и долговязый. Лицо тёмное, как у араба, по виду и не скажешь, что латыш. Но от горя почернел или от злобы на весь мир – не знаю, врать не буду.
Бутку посадили под меня. Он должен был докладывать о каждом моём слове. Для этого на утреннем обходе он записывался на приём к врачу. Другие по неделям не могли попасть, а Бутку что ни день вызывали.
Я прикидывался простачком и делал вид, что ничего не понимаю, верю Гунтису во всём. Он еле сдерживал ухмылку, чтобы не выдать себя с головой.
Зрачки у него были расплющены. Казалось, он смотрел внутрь себя и не тонул: душа была мелководной. Вброд перейти можно. По щиколотку будет, и то вряд ли.
Передач от близких Гунтис никогда не получал. Родные на него давно рукой махнули. В маломестной камере мне одному носили регулярно. Я делился. Бутка каждый день от пуза ел мой хлеб и каждый день закладывал меня. Я думал про себя: «Чтоб ты подавился!» – и терпел.
Так мы и жили.
Братка
Братка по национальности цыган. Ростом невысокий, лицо будто закоптили, глаза шустрые, живые, а голос низкий и нахрапистый, так и кажется, что Братка перейдёт на крик.
Братка вечно в поиске: он ищет, кого можно околпачить, у кого что выдурить, и палец в рот цыгану не клади.
Братка любит вспоминать, как сидел с Альфредом Рубиксом, бывшим лидером латвийских коммунистов. Где только разговор за Рубикса зайдёт, Братка тут как тут.
«Мы с Петровичем вместе сидели. Рубикс в угловой хате был, номера не помню, там была четырёхместка, но он сидел один, а мы были напротив, через продол, точно в такой хате, только вшестером.
Это было в 1994 году, зима ещё была. Рубикс нам газеты подгонял через баландеров. Мы их брали для сортира. Кто их, на хрен, читать будет? Мы тогда каждый день бухие были. Пьяный угар на тюрьме стоял. Спирту море было. Спиться можно было. Я на свободе так не пил. Весело жили. В гости друг к другу ходили.
Четвёртый корпус весь был в дырках, в каждой хате «кобура» была, даже к смертникам пробили, но их перевели.
Хотели к Рубиксу долбить, кричим: «Держись, Петрович! Мы к тебе зайдём через чердак!» Он испугался и кричит: «Не надо! Не делайте этого!» Мы не стали. Спросили денег у него. Он нам вечером, по ужину, через баландера подогнал. Потом ещё хотели к нему лезть, он опять от нас откупился, а больше мы наглеть не стали. Он мастюху всё-таки держал, и многие его уважали. Только плохо, что он красный, как пожарная машина, ха-ха-ха…»
Любой свой монолог заканчивает Братка смехом.
А Рижская тюрьма тогда на самом деле была проходным двором. Зэки умудрялись даже забредать на пищеблок и угрозами сварить живьём нагоняли жуть на поваров.
Про любовь
Ночью снился эротический сон – обычное для тюрьмы дело. Снилась женщина, незнакомая, но очень желанная. Наверно, это был собирательный образ, эталон, идеал, женщина моей мечты. Что тут добавить?
Я целовал её плечи и грудь, целовал волосы и шею, целовал глаза и брови. Как томимый жаждой путник припадает в знойный день к воде, так я, должно быть, взалкал губы. Я целовал их ненасытно, жадно, с упоением.
Потом мы слились воедино, стали одной плотью, и я хорошо чувствовал каждую клеточку женского тела. Я был заворожён им, не иначе. Затаив дыхание, я погружался в глубину и едва только вошёл, то сразу, как на грех, и растворился – без остатка, целиком… И будто заново родился.
Молодец был всё-таки Адам. И правильно он сделал, что оставил ради Евы рай. Ничего-то он не потерял, ничегошеньки. Я мысленно благодарил Бога за то, что Он создал для человека женщину; и впрямь, должно быть, из ребра мужского сотворил: ладно всё да чудно получилось.