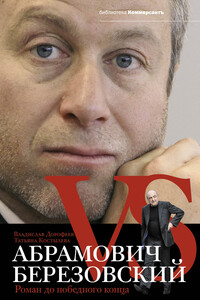– Лунь!
– Отрыжка!
– Волк позорный!
– Дятел!
– Чушка!
– Обормот!
Как из рога сыплется. Одно другого хлеще. Новичок тушуется, но продолжает клянчить.
– Тюрьма, тюрьма, дай кличку! Не простую, а воровскую!
Новичок как будто просит милостыню. Но тюрьма глуха к его стенаниям. Ей бы только душу отвести, потешиться, позубоскалить. Тюрьма входит в раж.
– Козёл!
– Фуфлыжник!
– Гребень!
Обидные все прозвища. Новичок конфузится, но, как учили, отбивается на каждый выкрик, верещит:
– Не канает!.. Не канает!.. Не канает!..
Голос его раз от разу становится всё больше хриплым, безнадёжным и глухим. Он уже убит таким напором.
И выбирать-то не из чего. Ничего хоть мало-мальски подходящего. А сокамерники сзади наседают, поедом едят, палкой от швабры охаживают, требуют, чтобы выбрал что-нибудь.
Новичок затравленно кричит:
– Тюрьма, тюрьма, дай кличку!
– Д’Артаньян! – доносится как будто запоздало одинокий крик; он, кажется, несёт спасение, и новичок поспешно заглатывает наживку, скрывающую пагубность крючка.
– Канает!
Он думает, пришёл конец мучениям, но они, пожалуй, только начались, и откуда-то издалека, может, из другого корпуса, выводят чуть не по слогам:
– Не тот, который на шпагах дерётся, а тот который в рот е...ся!
Сбитый с толку новичок краснеет от досады, от стыда; вопит как оглашённый:
– Не канает!!!
Но поздно. Голос его тонет в общем безудержном смехе, в свисте, в улюлюканье, в многоголосой брани.
…Мне бы кличку для себя выбирать не пришлось. Обо мне позаботился начальник полиции Юрис Брикис. То ли с пьяных глаз ему что померещилось, то ли со страху, то ли карьеру решил сделать на чужой беде, только погоняло Террорист с его лёгкой руки ко мне прилипло крепко.
Кому тюрьма, а кому мать родна
Половину жизни Витька провёл в тюрьмах и хорошо сохранился.
Выглядит на 28 лет, хотя ему под сорок.
Человек в тюрьме хранится, как в консервной банке, и даже срок хранения указывают каждый раз.
Наблатыкался за эти годы Витька, кручёным стал, словно шнек от мясорубки. На горло любит брать, и глотка у него лужёная.
А закадычный его друг Федя Конопля – полная противоположность Витьке. Длинный и худой – два метра сухостоя; и молчун не по годам – двух слов не скажет за день.
На пару они могут день-деньской «шабить» и так обкурятся, что чуть ворочают, как будто не своими, языками.
Ни к селу ни к городу Витька говорит:
– Меня уже ничем не проймёшь. У меня внутри всё перегорело. Никаких чувств не осталось, кроме аппетита.
– А меня? – икает Конопля.
– Ты ещё хлебный! – повышает голос Витька. – Из тебя можно мякиши лепить!
Конопля отмалчивается. Погружается в себя. И Витька теряет нить разговора.
Сине-сизые клубы тяжёлого пахучего дыма плотоядно кружат вокруг них медленно и плавно, словно в ритуальном танце.
Конопля не подаёт признаков жизни. У него расширены зрачки. Он лежит, безвольно свесив руки.
Витька у себя на шконке привалился намертво к стене. Глаза у него открыты, но он не видит ничего перед собой.
Так пробегает час. Потом Витька вроде как очухивается и сумбурно тормошит кента.
– Я без тебя скучаю, пришли курить и чаю… Конопля! Ты слышишь меня? Я торчу! Как бы «кукушка» не улетела. Ты меня слышишь, Конопля? Чего молчишь?! Ты дуру не гони, и на нашей улице грузовик с пряниками перевернётся, слышишь, Конопля? Без мозгов жить лучше. На крайняк, прикинь, не будет сотрясения, если по голове дадут. Ха-ха-ха… С понтом ехали на дачу, оказалося – этап. Ты что, в натуре, Конопля?! Пальцем тебя делали, а говоришь, что папа…
Устав от собственного велеречия, Витька с возбуждением прикуривает новую, загодя набитую «дурью» папиросу, раз за разом глубоко затягивается и, задержав дыхание, толкает Коноплю.
Тот через силу поднимается и принимает, как сомнамбула, «косяк».
Так они на пару коротают срок. И коротают жизнь.
За ними в глазок камеры подглядывает надзиратель. Зовут его Вадим. В тюрьме его терпеть не могут ни свои, ни зэки. Он всё делает исподтишка и теперь рад рапорт настрочить, так и чешется рука, да наказали не совать нос не в свои дела, сказали, что начальник оперчасти Иванов проводит разработку и наркоманов взял под свой контроль.