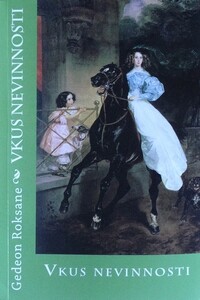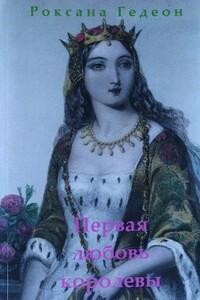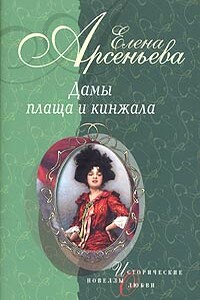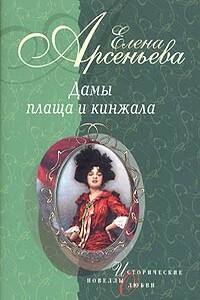Жан писал о своих многочисленных спортивных успехах в Итоне - особенно это касалось игры в рэгби, которой увлекался весь английский высший свет, о том, как он совершенствуется в английском и изучает римское право. Ему шел тринадцатый год, и впервые в его письмах начинали звучать вопросы, касающиеся взрослой жизни. «Что ты думаешь о Бонапарте, мама? - спрашивал он меня. - Правда ли, что он, как все надеются, передаст трон законному государю и род де Ла Тремуйлей снова получит возможность служить Франции?» Увы, я не знала, что на это ответить - этим вопросом задавались все и никто не мог ничего сказать определенно.
Зато я догадывалась, почему Жан стал забивать себе этим голову. Отец сообщил мне, что граф д’Артуа, переехавший на всю осень и зиму из Эдинбурга в Лондон, неоднократно приглашал моего сына к себе, вел с ним доверительные беседы, играл в бильярд и, как видно, пытался восполнить пробелы в его аристократическом воспитании. В кругу принца крови постоянно велись разговоры о том, что вот-вот - и монархия во Франции будет восстановлена, Людовик XVIII взойдет на престол, и Бурбоны вернут себе былой блеск. Жана, как признанного сына принца королевской крови, в этом случае ожидали бы ошеломляющие военные перспективы, и душа моего мальчика, воинственного и храброго, не могла оставаться к ним равнодушной. Он бредил лаврами Великого Конде и Тюренна, зачитывался подвигами Мориса Саксонского и не мог не проводить параллели между собой и этим последним: Морис тоже был бастардом королевской крови и увенчал себя немыслимой славой! Жан даже писал мне об этом своем кумире, излагал свои размышления о преимуществах артиллерии в современной войне… Но где было найти всему этому применение в революционной Франции? В Республике, которая давно проложила реку кровной мести между собой и Жаном? Неудивительно, что мальчик мечтал о возвращении королевской власти.
Отец между делом информировал меня, что граф д’Артуа сильно изменился в последнее время. Мало того, что в нем проснулось желание воспитывать сына, он еще и увлекся без памяти, что случалось с ним нечасто, бледной и худосочной графиней де Поластрон, которая помогала ему коротать дни в Эдинбурге. Впрочем, подробности личной жизни принца крови оставили меня равнодушной. Меня больше пугал боевой настрой, царивший в кругах французской эмиграции. Как по мне, они слишком много надежд возлагали на быстрые изменения во Франции - надежд, которые мне здесь, в Бретани, казались абсолютно призрачными. Мне было жаль разочаровывать сына, но и лгать ему я не могла.
Бретань была озабочена совсем иными делами. Когда в середине января, в промозглый серый зимний полдень в Белые Липы стали прибывать первые шуанские предводители, я в который раз поняла, насколько роялистские дела плохи.
Я готовилась к этому мероприятию, предполагая, что оно будет хоть в чем-то сродни былым аристократическим собраниям, но все мои предположения были разрушены в первые же часы. Когда в усадьбу приехал граф де Буагарди с перевязанной головой, потом - прибыл из Нормандии смуглый статный весельчак граф де Фротте с рукой на перевязи, от былого остроумия которого осталась одна едкость, затем - измученный Сюзаннэ, отощавший д’Отишан, ожесточенный Бурмон, злой Ла Превалуа, молчаливый Сент-Илэр и крайне подавленный Ларошжаклен, одно имя которого ранее было синонимом галантности, я поняла: в Белых Липах встречаются вожди безнадежно разгромленных армий… и им от меня как от хозяйки не нужно абсолютно ничего изысканного, только еда и ворох соломы для сна.
Еды у нас было в избытке, но не было толкового повара. Впрочем, его отсутствия все равно никто не заметил. Немудреная снедь, приготовляемая нашими деревенскими кухарками, пошла на ура. Просоленный окорок, свиные паштеты, картофель, жаренный в свином жиру, булки с тертым сыром и сладким творогом, запеканки с мелко нарезанным салом, блины и галеты, сидр и кальвадос - все это, равно как и обычные постели с подушками и одеялами, встречалось нашими гостями с признательностью. Спавшие всю зиму где попало, в хижинах и оврагах, раненные, зачастую с лихорадкой, глубоко простуженные, роялисты вызывали сочувствие, как больные дети, и были благодарны случаю за возможность отдохнуть и отъесться.