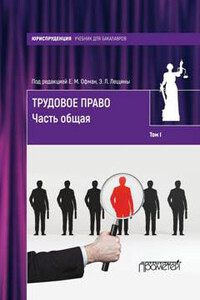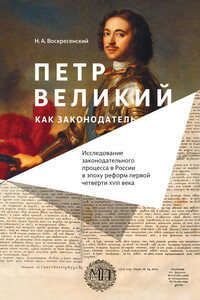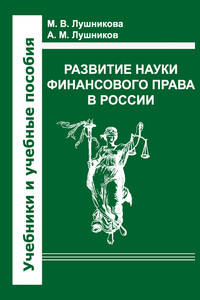Последователи Ломброзо Ферри и Гарофало в своих трудах внимание акцентировали на понятиях «опасное состояние» и «преступный тип». Эти авторы описывают такие полярные категории, как милосердие и жестокость. Они ставили вопрос о социальной защите (это увязывалось с милосердием) «сочувствующих обществу людей» от насилия «преступных грешников». Особого внимания заслуживает то, что Ферри и Гарофало впервые предложили «включить преступное насилие в правовые рамки». По существу речь шла об уголовно-правовом понятии насилия[90]. Однако эта идея в трудах Ферри и Гарофало дальнейшего развития не получила. В какой-то мере она изучалась представителями советского уголовного права[91], но впоследствии была оставлена без внимания.
Как видно, в исследованиях Ломброзо, в известной мере Ферри и Гарофало, насилие рассматривается и в узком смысле, когда изучается именно личность. Этому соответствуют и взгляды на насилие ученого-психиатра Зигмунда Фрейда. Если Ломброзо считал, что насилие, проявляемое в преступлении, характерно только для некоторой части людей, то исходной позицией Фрейда явилось положение о том, что все без исключения люди рождаются преступниками, «подавляя силой друг друга», хотя не все ими становятся.
Теория Фрейда основывается на том, будто сущность психики человека есть результат воздействия врожденных, архаичных половых и агрессивных инстинктивных импульсов. В основе всего, писал Фрейд, лежит личность с ее агрессивной реакцией на «инстинктивные образования», когда насилие и жестокость находят «сферу приложения»[92]. Если такового не происходит, возникает невротический конфликт, внешним проявлением которого является соответствующее преступление, как правило, связанное с насильственными действиями сексуального характера. Это, по существу, теория сексуальности. По З. Фрейду, человек от природы наделен разрушительными, агрессивными инстинктами, а потому он насилует и убивает.
К единству понятия насилия в широком и узком смысле приводит нас учение Гюстава Тарда, который «в рамках социологической школы создал психологическое «течение преступного поведения»[93]. С помощью психологии он вносит новое в социологическое объяснение преступного насилия, при этом учитывается роль индивидуального в криминальных действиях. Придавая преступному насилию общественное значение, Тард в то же время призывает «не оставлять без внимания индивидуальное, межличностное». В этих рассуждениях Тарда можно проследить нить, ведущую к проблеме «криминальности» личности, которую нельзя отрывать от общественной жизни. Об «индивидуальной склонности к преступному насилию» писал и Франц Лист. При этом он так же, как и Тард, указывал на связь с социальной сферой. Однако Лист, ведя речь об указанной «индивидуальной склонности», считал, что преступление необходимый атрибут человеческой жизни. В этом Лист в известной мере приближается к теории Фрейда: в основе всего лежит именно и только личность.
Именно в таком плане осуществляются исследования проблем насилия в трудах ученых до середины XIX в. К концу XIX и началу XX в. изучение этих проблем проникает в широкую социальную сферу, а насилие рассматривается как «давление власти имущих на членов общества». Такое понимание насилия, как писал Поль Лафарг, берет свое начало с А.Н. Радищева (со второй половины XVIII в.). Сам же Поль Лафарг акцентировал внимание на изучении тяжких преступлений, в частности, на убийствах[94]. Однако конкретней всего о насилии именно в связи с убийствами писал Адольф Кетле. Называя убийства актами насилия, Кетле писал, что эти акты, взятые в большом масштабе, обнаруживают по своему числу и по своей классификации такую же закономерность, как явления природы. По его мнению, общество скрывает в себе зародыш всякого убийства, оно само подготавливает такого рода насилие над человеком. Ставя во главу угла мораль, Кетле изучает вопрос о моральной статистике, имея в виду не только проституцию, бродяжничество, пьянство, самоубийства, но и убийства. Особое место в исследованиях Кетле занимают именно убийства. Во всем, что касается убийств, писал он, числа повторяются с таким постоянством, что этого нельзя не заметить. Здесь же Кетле отмечает, что не только убийства ежегодно совершаются почти в одном и том же числе, но и орудия, которыми они совершаются, употреблены в одних и тех же пропорциях. Кстати, эти орудия Кетле называет «орудиями насилия». Он рассматривал убийства и с прогностической точки зрения: можно заранее вычислить, писал он, сколько людей замарают руки кровью себе подобных. И здесь Кетле многое связывает с проблемами общества