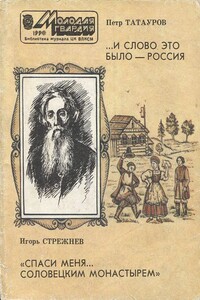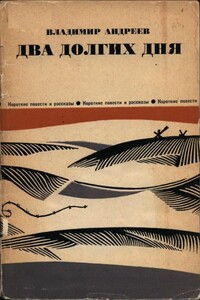Под окном террасы, среди кустов красной смородины, стоял мальчик. В руке у него было зажато несколько кистей ягод, но он не ел их. Он нечаянно подслушивал спор родителей.
Когда мама стала слишком сильно кричать, а потом заплакала, он осторожно обошел террасу и очутился во дворе дома. У летней кухни положил на стол кисти смородины. Там же нашел обрывок оберточной бумаги, вынул из кармашка шорт карандаш и написал на обрывке: «Я уплыл на тот берег». Вышел на середину двора, где натянутая веревка для сушки белья провисла пониже, и прикрепил записку прищепкой. Снял рубашку и шорты и тоже повесил на веревку. И в одних плавках направился к калитке. Не брякнув щеколдой, отворил ее и вышел, так же бесшумно закрыв.
Через минуту он с наслаждением входил в упругую гладь озера.
…Вода была зеленая и теплая даже на вид. А там, где вода сливалась с кромкой леса, она казалась золотой, и от солнечных лучей было больно глазам. Но мальчик всегда плавал с открытыми глазами. Так он плыл и теперь. Старался плыть спокойно. Он не хотел устать. И потому заставлял себя не думать сейчас о том, что плывет, не думать о воде и вообще ни о чем не думать. Просто плыть. А потом, когда уже будет берег и тот домик на берегу, он выйдет из воды, и его сразу окружат гудящие оводы; он почувствует боль от укусов. И вместе с этой болью придет ощущение того, что плыть больше не надо, что под ногами песок о сухими сосновыми шишками, которые приятно и колко отдаются в ступне.
Он давно хотел научиться плавать быстро. Не просто хорошо — а быстро и красиво. Ему уже двенадцать лет. И он очень хотел бы плыть вдоль пляжа, быстро и мощно работая ногами. И чтобы кто-то смотрел на него с берега. И девочки чтобы смотрели тоже.
Ноги у него стали какими-то жесткими и напряглись. Устал. Нужно отдохнуть. У него никогда не сводило ноги судорогой. И он боялся, что именно сейчас, вот сегодня… Мальчик перевернулся на спину, расслабился, медленно шевеля руками.
Небо было оранжевым сквозь прищуренные веки, а если зажмуриться, а после сразу открыть глаза, то небо падало вниз, летело, нехотя останавливаясь, когда привыкали глаза.
Как хорошо было раньше, когда они не ругались. Они были хорошими. Было все по-другому. И небо другое… Он вспомнил себя в маленьких санках. Отец закутал его в свой полушубок. Кисловатый запах кожи смешивался с морозным воздухом; вдали шумели электрички, а они шли впереди и вместе — он одной рукой, а она другой — легко везли его и смеялись… Мать с отцом… Нет, это он сейчас их так называет. Снег хрустел у них под ногами равномерно и слаженно, даже когда они бежали. Он капризничал и кричал: «Быстрее!» Они бежали и смеялись. А потом мать подходила к нему, красивая, белая, в инее и, чуть задыхаясь, целовала.
— У-у… Замерз, карась?
— Не-а…
И небо плыло над головой, снег сухо скрипел под полозьями. Звезды мигали доверчиво и добро, и он пытался отыскать ковш из семи больших ярких звезд с немного страшным и чудным названием Большая Медведица… Отец показал давно ему этот ковш, и он всегда вечером, когда отец был рядом, находил созвездие, протягивал руку к нему и говорил:
— Смотри, папа, Большая Медведица!
— Ух ты! Мой астроном! — Смеясь, отец подхватывал его на руки.
И вот он у отца на плечах и слушает длинную-длинную сказку про старуху медведицу и маленького мальчика-охотника с волшебной стрелой — такую длинную, что она никогда не кончалась и которая с таким нетерпением заставляла ждать его каждый новый вечер, когда небо становилось темным и появлялись первые звезды…
Потом отец уезжал и надолго увозил с собой в тайгу эту бесконечную сказку. А перед отъездом говорил: «Дружище, вы здесь с мамой ищите вечером Большую Медведицу… И я там тоже. Только, чур, чтобы вместе смотрели, одновременно! Будто мы рядом. И не скучайте! Хорошо, карась?»
Он снова плыл, головой зарываясь в воду. Он плыл упорно, и это упорство могло казаться спокойствием. Мальчик плыл к зеленой кромке леса, туда, где сосны выходили прямо к озеру и роняли в жаркий день желтые слезы в лениво набегавшие волны. Сосны плакали янтарем, и вокруг стоял сочный смоляной запах.