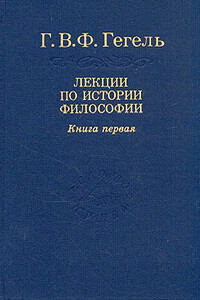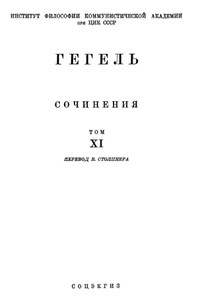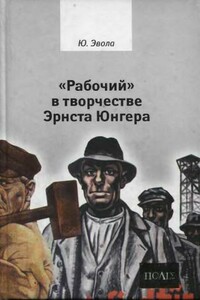На более определенное обвинение в том, что он соблазняет сыновей к неповиновению родителям, Сократ отвечает вопросом: когда выбирают на государственные должности, например на должность военачальника, разве отдают предпочтение родителям, а не скорее тем, которые опытны в военном искусстве? Так и во всем остальном отдают предпочтение тем, которые лучше знают данное искусство или науку. Что же удивительного, что его обвиняют перед судом в том, что сыновья предпочли его своим родителям в отношении того, что для людей является высшим благом, т.е. в отноше>{79}нии воспитания, которое сделает их благородными людьми?[55]. Этот ответ Сократа, с одной стороны, правилен; но мы тотчас же убеждаемся, что и здесь мы не можем назвать этот ответ исчерпывающим, ибо он, собственно говоря, не затрагивает истинного существенного пункта обвинения. То, чтò его судьи нашли несправедливым, – это моральное вмешательство третьего лица в абсолютные отношения между родителями и детьми. В общем об этом нельзя много сказать, ибо все зависит от способа этого вмешательства, и пусть оно в отдельных случаях и необходимо, все же, в целом, оно не должно иметь места, и менее всего оно должно иметь место в том случае, когда это позволяет себе случайное частное лицо. Дети должны обладать чувством единства с родителями; это – первое непосредственное нравственное отношение. Каждый воспитатель должен уважать это чувство, блюсти его в чистоте и развивать его. Поэтому если третий вмешивается в это отношение между родителями и детьми, и это вмешательство носит такой характер, что дети для их пользы отвращаются от доверия к родителям, причем им внушается мысль, что их родители – дурные люди, портящие их своим общением и воспитанием, то мы находим это возмутительным. Самым худшим, что может произойти с детьми в отношении к их нравам и сердцу, является ослабление или полный разрыв этой связи, которую всегда должно уважать, и превращение ее во вражду, презрение и недоброжелательство. Кто это делает, тот нарушает нравственность в ее существеннейшей форме. Это единство, это доверие есть материнское молоко нравственности, которым кормят человека до тех пор, пока он не вырастет; потеря родителей в раннем возрасте является поэтому большим несчастьем. Сын, равно как и дочь, должны, правда, вырваться из своего природного единства с семьей и сделаться самостоятельными; но это отделение от семьи должно быть, однако, не вынужденным, не насильственным, не должно быть враждебным и презрительным. Если в душу внесли такую боль, то нужны будут большая сила и уменье, чтобы преодолеть ее и залечить рану. Переходя теперь к случаю с Сократом, нужно сказать, что он, по-видимому, своим вмешательством привел к тому, что молодой человек сделался недоволен своим положением. Сын Анита, может быть, вообще находил свою работу неподходящей для себя; но совсем не то получается, если такое недовольство приводится к сознанию и подкрепляется авторитетом такого человека, как >{80}Сократ. Мы имеем право предположить, что своими беседами Сократ взрастил зародыш чувства неудовольствия, укрепил и развил это чувство. Сократ заметил его хорошие задатки, сказал ему, что он годится для чего-то лучшего, и таким образом укрепил разлад в душе молодого человека и усилил его недовольство своим отцом, которое, таким образом, сделалось причиной его гибели. Следовательно, и обвинение в том, что он разрушил связь между родителями и детьми, мы должны рассматривать не как напрасное, а как вполне обоснованное. Афиняне были поэтому очень недовольны Сократом и упрекали его за то, что он имел таких учеников, как Критий и Алкивиад, которые привели Афины почти на край гибели (см. выше стр. 64 – 65). Ибо если он вмешивался в воспитание, которое другие давали своим детям, то справедливо предъявить требование, чтобы ничего из того, чтò он хочет сделать для образования юношества, не оказалось обманчивым.
Спрашивается только, как народ может разобраться в таких делах, в какой мере такие дела могут быть предметом законодательства и служить поводом к судебному обвинению? Что касается первого пункта обвинения, то согласно нашим законам такие прорицания, как, например, предсказания Калиостро, недозволительны и в былые времена были бы запрещены, например инквизицией. А что касается второго пункта, то такое моральное вмешательство у нас, правда, носит более организованный характер, и эту обязанность выполняет особое сословие; однако даже это вмешательство должно оставаться общим и никогда не должно доходить до того, чтобы вызывать непослушание родителям, являющееся первейшим безнравственным принципом. Но подлежат ли подобного рода поступки ведению суда? Это раньше всего вопрос о праве государства, и в этом отношении мы теперь признанием широкий простор. Если бы, однако, профессор, например, или проповедник нападал на определенную религию, то правительство наверное обратило бы на это внимание, и оно имело бы на это полное право, хотя и поднимается всегда крик, когда оно это делает. Здесь, правда, при свободе мысли и слова трудно определить границу, и определение этой границы основывается на безмолвном соглашении; но существует пункт, за пределами которого начинается недозволенное, например прямой призыв к восстанию. «Дурные принципы», говорят, правда, «разрушаются сами собой и не находят доступа». Но это лишь отчасти верно, отчасти же нет, ибо красноречие софистов возбуждает у черни как раз их страсти. Говорят также: «Это лишь теория, ведь здесь не