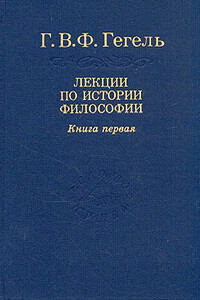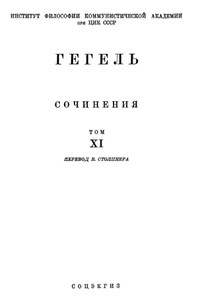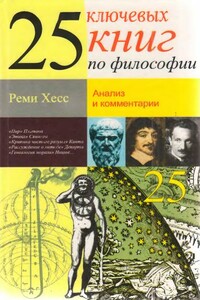Можно несомненно видеть в этом отказе моральное величие, но, с другой стороны, это несколько противоречит тому, что Сократ говорил позднее в темнице, а именно, что он не хочет бежать, а останется сидеть здесь потому, что это кажется лучше афинянам, и ему лучше подчиняться законам (часть I, стр., 299 – 300). Но основное подчинение заключалось бы именно в том, что если афиняне его признали виновным, то он отнесется с уважением к их приговору и тоже признает себя виновным; он поэтому, будучи последовательным, должен был бы также признать за лучшее подвергнуться наказанию, так как он этим тоже подчинялся законам, и не только законам, но и приговору. >{83}Так, мы видим, как небесная Антигона, великолепнейший образ из всех тех, которые когда-либо появлялись на земле, идет к смерти со следующими последними словами:
Когда богам угодны наши муки,
Признаться мы должны, что согрешили.
Перикл тоже подчинялся приговору народа, как суверена; так мы видели, что он просит у граждан за Аспасию и за Анаксагора (ч. 1, стр. 285 – 286), точно так же мы видим, что благороднейшие люди в Римской республике просят граждан. В этом нет никакого бесчестия для отдельного лица, ибо оно должно склониться перед всеобщей силой, а этой реальной благороднейшей силой является народ. Как раз со стороны тех, которые занимают высокое положение в народе, он должен видеть это признание. Здесь же, напротив, Сократ отказался от этого подчинения и покорности власти народа и не пожелал просить о смягчении наказания. Мы восхищаемся в нем этой моральной самостоятельностью, которая, сознавая свое право, настаивает на нем и не склоняется ни к тому, чтобы действовать иначе, ни к тому, чтобы признать несправедливостью то, что она сама считает справедливым. Сократ поэтому навлекает на себя смерть, на которую не надо смотреть как на наказание за проступки, в которых он был найден виновным. Ибо лишь то, что он не хотел определить себе наказания и, следовательно, отказался признать судебную власть народа, вызвало присуждение к смерти. В общем он признавал суверенитет народа, но не признал его в данном единичном случае. Но этот суверенитет должен быть признан не только в общем, но и в каждом единичном случае. У нас компетенция судов предполагается заранее, и преступник присуждается без всяких обиняков. Таким образом, в наше время субъект оставляется свободным, и лишь деяния принимаются во внимание. У афинян же мы видим своеобразное требование, чтобы осужденный актом оценки своей вины вместе с тем сам явно санкционировал судебный приговор, признающий его виновным. В Англии это не имеет места, но нечто подобное мы еще там находим в другой форме: обвиняемого спрашивают, по каким законам он хочет быть судим, и он отвечает: по законам моей страны и пред судом моего народа. Здесь, таким образом, судебному разбирательству предшествует признание.
Сократ, следовательно, противопоставил судебному приговору свою совесть и объявил себя оправданным перед судом своей совести. Но никакой народ и меньше всего свободный, и притом еще такой >{84}свободный, как афинский народ, не может признать суда совести, который не знает никакого другого сознания исполнения своей обязанности, кроме как сознания этой совести. На это могут ответить правительство, суд, всеобщий дух народа: «Если ты сознаешь, что исполнил свой долг, то у нас также должно быть это сознание, что ты его исполнил». Ибо первым принципом государства является вообще то, что не существует никакого высшего разума или совести или добропорядочности – назовите это, как угодно – помимо того, чтò государство признает таковым. Квакеры, анабаптисты и т.д., противящиеся определенным правам государства, например, в отношении защиты отечества, не могут быть терпимы в истинном государстве. Эта жалкая свобода мыслить и мнить, чтò кому угодно, не находит в нем места, не находит также в нем места это отступление в твердыню сознания своего долга. Если это сознание не является лицемерием, то все должны признавать, что данные дела отдельного лица, как таковые, представляют собою его долг. Если народ может заблуждаться, то еще гораздо больше может заблуждаться отдельное лицо, и оно должно сознавать, что оно может заблуждаться и еще в гораздо большей мере, чем народ. Вообще, суд тоже обладает совестью и должен постановлять решения согласно с нею; суд, больше того, есть привилегированная совесть. Если противоречие права в процессе состоит в том, что каждая совесть желает чего-то другого, то лишь совесть судебного учреждения считается всеобщей законной совестью, не обязанной признавать особую совесть обвиняемого. Слишком часто люди убеждены, что они исполнили свой долг, но дело судьи исследовать, на самом ли деле исполнен долг, хотя бы те люди, которые подлежат его суду, и определенно сознавали это.