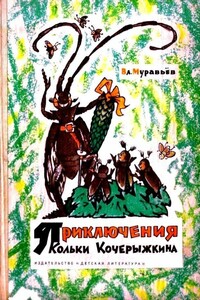— Не знал! Не знал! Не много же ты знаешь, Фонвизин, — саркастически усмехнулся Николай. — Твои гнусные товарищи знают о тебе гораздо больше, чем ты сам знаешь о себе.
— Прошу очной ставки.
— Будет, будет тебе очная ставка! — закричал Николай и крикнул в пространство: — Увести!
* * *
После родов почти два месяца Наталья Дмитриевна пролежала в постели больной. Но едва только немного поправилась, как объявила решительно и твердо, что она должна ехать в Петербург, чтобы быть ближе к мужу, чтобы хлопотать о нем.
* * *
Авдотья Петровна Елагина дала Наталье Дмитриевне письмо к Жуковскому и уговорила ее остаться у нее на вечер.
— Рассеешься немного на людях, — сказала она.
Наталья Дмитриевна осталась, надеясь узнать что-нибудь новое о заключенных в Петропавловской крепости, потому что вечера Авдотьи Петровны посещали люди, которые не только принадлежали к высшему кругу, но и были причастны к делам внутренней и внешней политики.
Наталья Дмитриевна прислушивалась к тому, что говорят вокруг. Какими ничтожными казались ей все эти заботы, пересуды, остроумие и злословие. И вдруг среди гула голосов она услышала то, что хотела услышать.
Неизвестный художник. Н. Д. Фонвизина. Начало 1820-х годов
Александр Яковлевич Булгаков — московский почт-директор, один из самых осведомленных в столице людей — рассказывал стоявшим возле него нескольким мужчинам во фраках (Наталья Дмитриевна знала из них одного князя Петра Андреевича Вяземского, поблескивавшего своими некомильфотными очками):
— Вчера мы с доктором Ремихом возле постели графа Ростопчина заговорили о Трубецком и его товарищах. «В расчеты князя Трубецкого, — сказал доктор, — входило произвести то же самое, что случилось во Французскую революцию». Граф Федор Васильевич, услышав эти слова, открыл глаза и проговорил: «Как раз наоборот: во Франции повара хотели попасть в князья, а здесь — князья попасть в повара».
— Даже на смертном одре граф, как всегда, остроумен, — подобострастно сказал один из мужчин.
— Дурная привычка, — отозвался Вяземский.
Наталья Дмитриевна, поняв, что ничего интересного для нее она не узнает, перестала слушать рассказ Булгакова.
Оставив двухлетнего сына Дмитрия и двухмесячного Михаила на попечение родителей, по тяжелой, уже начавшей рушиться весенней дороге она выехала в Петербург.
* * *
Фонвизина, как обычно, вывели на прогулку на вал.
Два молчаливых солдата с примкнутыми штыками шли за ним в некотором отдалении.
С одной стороны была стена крепости, с другой — Нева, серая и широкая, как море. Вдалеке, за рекой, как игрушечные, виднелись дома. Одинокая лодка — жалкая скорлупка среди этой могучей водной стихии — качалась на волнах. В лодке кроме гребца находились две дамы.
«Кому и зачем понадобилось так рисковать, ведь тут ничего не стоит перевернуться?» — подумал Фонвизин и стал следить за лодкой.
Между тем лодка, то совсем пропадая в брызгах воды, то поднимаясь на гребне волны, приближалась к крепости.
Одна из дам сняла шляпу и помахала ею.
«Наташа! — узнал Фонвизин. — Наташа!».
Он вглядывался в ее лицо, она была бледна, худа — милая, бедная, любимая Наташа… Он остановился, и солдаты, не допускавшие остановок во время прогулки, ничего не сказали.
Неизвестный художник. Петропавловская крепость. 1845 год
Наташа махала шляпой. Она улыбалась, и из глаз ее (он видел это отсюда, с вала, каким-то сверхъестественно обострившимся зрением) текли слезы… Фонвизин услыхал за спиной тихий голос:
— Михаил Александрович, ваше превосходительство, не стойте на месте, идите… Комендант заметит, запретит прогулки.
Приблизившийся солдат слегка подтолкнул его. Фонвизин пошел далее, оглядываясь на лодку.
— Они уж третий день в этот час сюда приплывают, — сказал солдат, помолчал и, немного погодя, заговорил снова:
— Вы-то нас не помните, а мы очень помним: во Франции в плену вместе были.
— Постой-ка, не ты ли первым вызвался посты у арсенала снять?
— Я.
— А вот имени твоего не помню, прости.
— Михаил Александрович, нынче ночью на карауле в крепости егеря. Мы между собой поговорили и порешили, что тебе бежать надо, мы пособим.
Фонвизин встрепенулся.