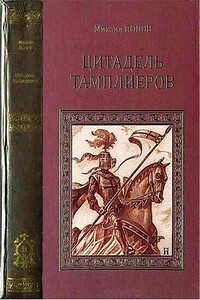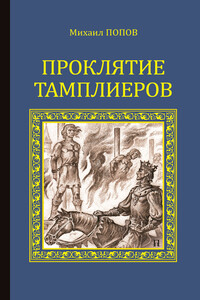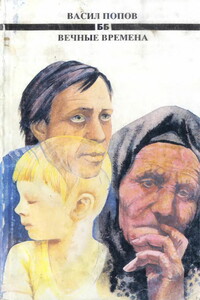Михаил Михайлович вызвал к себе Ларису. Усадил в кресло. Предложил курить. Лариса чувствовала, что сейчас этот большой мужчина ей доверится, и ей было приятно сознавать, что ему в данной ситуации не к кому больше обратиться.
Выяснилось, что Николай Николаевич «встал на формальный путь». То есть, сняты побои, диагностировано сотрясение мозга, написано заявление в милицию, в прокуратуру, ЦК ВЛКСМ поставлен на ноги.
— У нас пока что еще советская власть. — Развел сильными и несчастными руками шеф, и по его тону было трудно понять, какой смысл он вкладывает в свое заявление.
Лариса кивнула, прищурившись выпустила аккуратный клуб дыма из своих совершенно здоровых легких. И сообщила шефу, что вся Москва гудит, со всех этажей к Карапету идут делегации со словами поддержки, московские армяне готовят какое–то заявление.
Щеки шефа все более обвисали после каждого слова. Опускались углы рта, и края бровей.
— Боюсь, что до суда дойдет. Я пытался воззвать, но Пызин закусил удила. Его тоже надо понять. Кто, говорит, власть, мы или они.
— Кто «они», армяне?
Михаил Михайлович мощно поморщился.
— Какие армяне, вообще — они!
— Либералы?
— Ну-у…
— Диссиденты?
— Послушайте…
— Евреи?
Михаил Михайлович поднял со стола широченные ладони.
— Пусть уж лучше армяне.
И тут же смутился, ему было неприятно, что из его уст прозвучала эта фраза. Он боялся за свою стерильную в этом отношении репутацию.
Лариса снова выпустила клуб дыма, как бы уже пропитанный какими–то предварительными мыслями, сообщив своему прищуру немного комиссарский оттенок.
— Вы считаете, что суда не избежать?
— Нет, закусил удила, мы или они! — И очень тихо добавил. — Кретин!
— Но Михаил Михайлович, если Карапета осудят…
— Два года колонии, я наводил справки.
— … если его осудят, я вам гарантирую все, вплоть до «Голоса Америки», даже и справки наводить не надо.
Шеф навалился на стол, максимально приблизив огромное, рыхлое лицо к собеседнице.
— Скажите вашему правдолюбцу, что он бил Пызина не кулаком, что он дал ему пощечину открытой ладонью. Это был не хулиганский мордобой на рабочем месте, а творческий спор внезапно перешедший на язык символически оскорбительных жестов. У нас здесь символизм был, а не реализм, черт побери!
Лариса дала понять шефу, что она все поняла.
— Хорошо, Михаил Михайлович, я попытаюсь, сделать все возможное.
Трудней всего, как ни странно, пришлось с самим Карапетом. Он хотел пострадать.
— Да, я дал ему по морде, да, на рабочем месте, да, кулаком! Вот этим кулаком. Пускай судят, я хочу, чтобы на меня надели наручники. Я хочу в тюрьму. Все приличные русские люди сидели в тюрьме.
Тойво с Милованом иронически переглядывались, Галка и Тамила Ивановна причитали, восхищенно и озабочено, разве что не по–армянски.
Как тени промелькнули Голубев и Воробьев. Один мгновенно пожал предплечье Карапету, другой запястье — держись, борец!
Лариса вела допрос свидетелей.
— Где вы были в тот самый момент?
— Я уже ушел. — Спокойно ответил Прокопенко.
— Ну, да, я забыла, у тебя как всегда все в порядке. Человека посадят, а у тебя все в порядке.
— Я хочу, чтобы меня посадили! — Коротко вскинулся Карапет, уговаривающие руки Галки и Тамилы Ивановны усаживали его обратно, поили кофе, гладили по неровной голове.
Прокопенко встал и вышел. Лариса повернулась к Волчку.
— А ты?
— Я?
— Ты?
Волчок видел все, видел пухлый, отчаянный кулак Карапета, видел его соприкосновение с челюстью Пызина. Пожалуй, от такого удара и челюсть может треснуть. Но сказать правду, не то что на суде, но даже здесь, перед лицом возбужденного коллектива, было нереально.
— Что ты молчишь?
— Я ничего не видел.