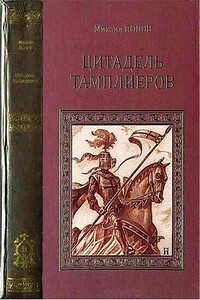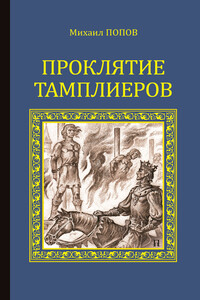— Да они рыдают, когда расстаются с ними, кто от горя, кто от благодарности. Они же по пять лет ничего такого не видели, может от самого НЭПа.
Общий, разноголосый хохот. В этом месте Ларисе вспомнился, совсем уж непонятно почему, сон Татьяны. Причем, вспомнился с отвращением, и она снова, гигиенически уснула, оставляя шабаш наяву, там, на втором этаже.
— Пошел вон! — Резко сказала она мужской руке будившей ее. Кто бы он ни был — всю рожу расцарапаю! С таким решительным решением проснулась она. — Скоты!
— Собирайся! — Громко прошептал Рауль. — И тут же убежал наверх, где гремел скандал.
Лариса села на краю дивана. В полузамерзшее окно пробивался лунный луч и рассыпался бликами по бокам валяющихся бутылок. Ей все стало понятно. Кто–то рухнул с лестницы в толпу тары. Как только она этого не услышала.
Наверху опять появился Руля.
— Собирайся! Совсем собирайся!
Она растеряно встала.
— Куда?
— А я откуда знаю?!
Она опять села.
По ссорящимся голосам определить, отчего весь сыр–бор, было невозможно.
По лестнице покряхтывая спустился Пит, проследовал в туалет, устроился там, не зажигая света, и, не закрывая двери, и долго вышивал струей по звонкому унитазу.
Вернулся, сел рядом с Ларисой, отчего диван опасно качнулся.
— Ладно, поедем.
— А Руля?
Пит крякнул и прыснул.
— Все поедем.
Оказалось, что за пределы Москвы.
— Малаховка. — Махнул беззаботной рукой Питирим, когда маленькая толпа выкатилась из промерзшей электрички на завьюженную платформу. Редкие железнодорожные огни разрозненно боролись с всесильной загородной тьмой. Угадывались ряды погребенных под снегом домов, кроме того — заборы и собаки. И все. В общем, Малаховка.
— Я точно не помню, где он живет, но он будет рад. — Объявил Питирим, и они двинулись цепочкой по неуверенно протоптанной тропе в сторону затаившегося поселка.
Ларисе все это не нравилось, но она понимала, что никакие ее возражения не будут приняты во внимание. Что–то отвратительно символическое виделось ей в этом акте покидания столицы, а ведь столько было вбухано сил в то, чтобы остаться внутри нее. И все, кажется, зря. Рауль и Плоскина брели поскуливая но только лишь от холода, а не от отчаянья. Пит и Энгельс бодро вертели бородами и чемоданами, и что–то бубнили как им казалось остроумное, и даже подходящее к случаю. Легко им, думала Лариса, легко им с таким количеством вермута внутри, да еще притом, что они в любой момент могут вернуться обратно.
— А кто он? — Осторожно поинтересовалась Лариса у могучей спины Пита.
— Да, скотина, в общем–то. — Сообщил он. — Мародер. Понимаешь, он закупает где–то на мясокомбинате несколько ящиков просроченной сухой колбасы и дует в какое–нибудь кислое Нечерноземье, и там у бабок за палку колбасы выменивает иконы, утварь. Пользуется голодухой. Не всегда это, конечно, такая уж ценность, но всегда вещи родовые, от дедов–прадедов. Скотство! И фамилия жуткая — Рыбоконь.
— А ты с ним пьешь! — Вдруг дернул за моральную струну Плоскина.
— А ты вообще скупщик краденого. — Вставил Энгельс.
— Какого черта я с вами потащился. — Вздохнул скупщик.
— А тебя никто не связывал и не пытал.
Плоскина потащился вслед за всеми из чувства товарищества — нас выгнали всех вместе — а теперь вдруг понял, насколько это ложное чувство. Он обернулся, взвешивая, не рвануть ли обратно, но одумался, настолько безжизненным казался окруживший их мир. Рауль, думавший, видимо, о чем–то похожем, громко шмыгнул носом, и обреченно побрел вглубь спящего поселка.
— Я не про Рыбоконя. — Сказала Лариса. — Я про нового хозяина.
Питирим поставил чемодан с имуществом переселенки, хватанул свежего снегу с сугроба и напал на него волосатой пастью. Глядя вслед слегка оторвавшимся фарцовщикам, сказал.
— Человек гостеприимный, но с прибабахом. Душа широкая, ласковая, но немножко мудак. Ладно, пошли, все равно больше некуда. Главное сейчас вообще его найти. Электрички уже не ходят.
— А ты адрес знаешь?
— Я примету знаю.
— А если ее снегом занесло?
— Тогда еще виднее будет. — Непонятно объяснил косноязычный Энгельс.
И тут же они увидели, что Рауль и Плоскина обернувшись, машут им восторженными руками.