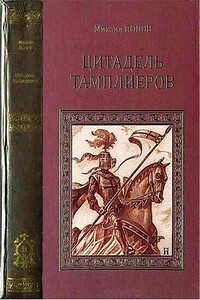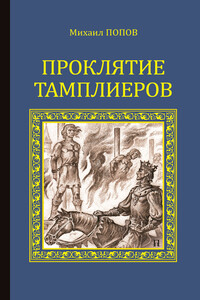— На два слова. — Повторил тихо генерал.
Лариса подмигнула Вове, тот вопросительно повернулся к беззвучно плачущей матери.
Вышли в тамбур. Лариса стала в свою любимую позу, отставив чуть полноватую, но все еще очень выразительную в эротическом смысле ногу. Самоуверенно улыбалась, и снисходительно смотрела сверху вниз на мужчинку в трикотажных штанах. Он действительно казался намного меньше, чем в прежней жизни. Сменил ботинки на каблуках на шлепанцы. Сменил белого коня на номер в ведомственном санатории.
— И какие же два слова вы хотите мне сказать, мой генерал?
Пусть извивается, пусть скулит, ничего ему уже не поможет, все равно ему одна дорожка — ползком в свое убогое семейство. Все, оказывается, было с самого начала обречено.
— Я жду, это не вежливо не отвечать такой женщине как я, это свинство!
Генерал молчал. Что творится в его голове, понять было нельзя, внешне это никак не выражалось, наоборот, он все больше цепенел, в плохо различимых в полумраке глазах ни огонька.
— Ты скажешь что–нибудь тля?! Хоть что–нибудь, хоть глазом моргни, товарищ прораб.
Генерал моргнул, но больше ничего!
— Да, что же ты за ничтожество?! Сделай что–нибудь. Упади на колени, проси прощения, или дай мне по морде! Невозможно же, чтобы вообще ничего!
И это на него не подействовало.
— Не–ет, ты у меня так не отвертишься, подонок!
Лариса прорычала еще что–то, рванула на себя дверь и бросилась в коридор. Купе проводника было рядом. У входа стоял тот человек из буфета, он о чем–то беседовал с проводником. Сначала у Ларисы был простой, механический план мести. Она наберет стакан кипятка, и плеснет в римскую харю. Но в одно мгновение, как у нее часто бывает, уже в процессе подлета к проводницкому купе, она передумала, и закричала, что ее только что пытались изнасиловать.
— Он там, он там в тамбуре!
— Что? — Расслаблено и непонимающе зашевелились мужики.
— Вы что сидите?! Изнасилование. Он в тамбуре! Он там сидит, в тамбуре.
Проводник встал с выпученным лицом, Лариса толкнула его в грудь, ввалилась в купе, и рухнула с тяжелым воем на его нечистую постель.
Улица Огинского была отделена от реки влажной асфальтовой набережной. Лариса шла медленно, поглядывая по сторонам. Слева — одноэтажные деревянные домики за серым штакетником, мокрые крыши, остовы парников, маленькие окна, до половины затянутые белыми занавесками, как бы чем–то заболевшие. Перевернутые лодки почти в каждом дворе. Справа — Щара покрытая рваными клоками тумана, с наклонно торчащими из покатых берегов ветлами. Над всем этим провинциальное, белорусское, но без единого аиста небо. Одно лишь создавало эмоциональную интригу — полнейшее отсутствие людей, а ведь три часа дня. Хоть бы собака пробежала. Тонко, сладко и все время щемит сердце. Огинский, где твой полонез?!
Остановилась, закурила, хоть чем–нибудь же надо оживить этот выцветший, заброшенный рай детства. И стоило ей только затянуться, как из туманной толщи, почти прилипшей к воде, с беззвучной, и крылатой лихостью вылетела байдарка двойка, и пронеслась мимо мощно и цепко хватая четырьмя лопастями лаково поблескивающую воду.
Лариса бросила им вслед недокуренную сигарету, надуманное очарование рухнуло. Город Слоним не гиб в дальних закоулках ее столичной памяти, он позиционировал себя как центр гребного спорта.
До бабушкиной калитки было два шага. У нее во дворе не было перевернутой лодки и парникового скелета. Что и понятно, Виктория Владимировна уже более года как не вставала с постели. Нанятая на ларисины деньги женщина, ходила за ней, и, кажется, как следует, отметила про себя внучка, пройдя через чистые сенцы, оглядев пребывающую в полной аккуратности кухню.
Виктория Владимировна лежала в комнате с закрытыми шторами, на широкой кровати с никелированными спинками. Рядом с кроватью небольшой круглый стол с толпой пузырьков и медицинских коробок. Старуха лежала величественно, на двух огромных, свежих подушках, хорошо причесанная, и в комнате не было того жирно–карамельного духа, что поселяется в жилищах даже здоровых стариков. Не было и трагического валокординового запаха.