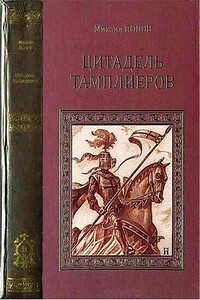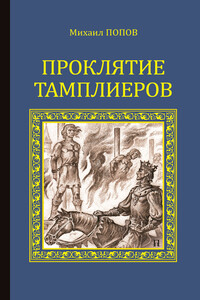Лариса в полной мере ощутила сладость оппозиционного существования. Прелесть теневого состояния власти. Похоже чем–то на купание в ночном море.
С каждым днем она все лучше ориентировалась в обстановке, в сочетании сил, в отношениях между действующими фигурами. И ей уже не мнилось ничего сакрального и таинственного в функционировании политического механизма. Она узнала так много, и такого уничижительного, мелкобытового обо всех этих Полтораниных, Старовойтовых, Немцовых, Шумейках, Боровых, Гайдарах, Чубайсах, что они стали для нее, чем–то вроде институтских однокашников, своих, по–сути, ребят, просто из чуть–чуть иной компании.
Однажды к Аристарху явились коммунисты. Московский, кажется, обком.
Впрочем, коммунистами в прошлом были практически все, потому что без членства в партии в СССР… и т. д. Но это были не открестившиеся, а реальные коммунисты, сберегшие партбилеты, зюгановцы. Они давили на то, что все патриотическое движение должно без всяких глупостей подлечь под КПРФ, чтобы избежать дробления сил.
Они очень сильно напирали, и тут Лариса впервые перешла из разряда слушателей, в разряд говорителей. Она села за стол, закурила, и, пустив под абажур легкий дымок, спросила у особо настырного гостя.
— А где была ваша партия, когда стреляли прямой наводкой по Белому дому? Почему Россия защищалась от этой деммрази в одиночку. И где была партия в 91 году? Да если бы одни только тетки из ваших районных бухгалтерий вышли со счетами в руках они бы треском костяшек распугали кучку демократов. Почему не последовало такой команды от вашего политбюро?! А теперь вы, отсидевшись, учите тут всех как жить!
Она сидела как раз под огромным резным распятием, мастерская Аристарха Платоновича была очень оформлена в православном смысле. Лариса знала, что если этот лысый зюгановец спросит — а где была ваша церковь в 93‑ем? Почему молчал в тряпочку ваш патриарх? она не будет знать, что ей ответить. Объяснение Питирима не стало ее убеждением.
Но зюгановец промолчал.
Явно сбитый с толку энергией ее напора. И суровым блеском красивых зеленых глаз.
Лариса навсегда перестала разливать чай.
Бабич охотно сменил ее в этой роли.
Постоянные посетители мастерской приняли Ларису в свой круг. Сначала некоторых смущал ее слишком резкий, безапелляционный стиль. Потом они даже разглядели в этом особую привлекательность, иной раз, при появлении нового и не вполне внятного или не очень приятного человека, выдвигали ее вперед, и откровенно развлекались, глядя, как она рвет его в клочья изящными ручками.
Если с кем–то надо было испортить политические отношения, не портя при этом свои личные, выдвигали Ларису. Постепенно она стала чем–то вроде полевого командира в собрании кабинетных стратегов.
Бабич пытался ее бережно окорачивать, льстиво вразумлять, когда они оставались один на один. Не зарывайся. Она внимательно слушала его советы, понимала, что советы–то правильные, но слишком уж не всегда им следовала.
От нее господам оппозиционерам была и практическая польза. По стране формировались местные отделения всяческих политических сил, и Лариса открыла свою записную книжку, набитую самыми различными телефонами еще с тех времен, когда она была богиней командировок в «Истории». Интересно, что почти никто из старинных знакомых не отказал в подмоге, несмотря на густой демократический озноб охвативший страну. Столичные эмиссары оппозиционного флигеля получили поддержку от ларисиных «историков» в полутора десятках городов. Их поселили, накормили, связали с нужными людьми в администрациях, пробили им рекламные полосы в местной прессе, и даже кое где пятиминутку на телевидении. Оказалось, что организация «Братья и сестры» не плод всего лишь ее политически воспаленного воображения. Потом, когда в это русло хлынули по–настоящему большие деньги от патриотического бизнеса, нужда в этих мелких помощах отпала, но первоначальное плечо поддержки многие отметили. Тем более, что Лариса и не думала скромничать, по несколько раз озвучивала факт своего полезного участия в общем процессе.
Аристарх Платонович удовлетворенно улыбался, теребя то правый, то левый ус, то эспаньолку, он все больше походил внешне на Дон — Кихота как его принято изображать на иллюстрациях, ему нравилось, что его крестная дочка так серьезно углубилась в эту политическую чащу. Он представлял ее себе как личную щуку, брошенную им в эту реку. Кроме того, это заставляло ее все чаще бывать у него в гостях.