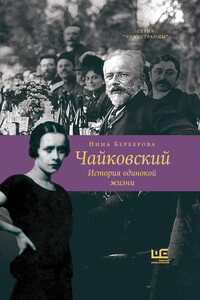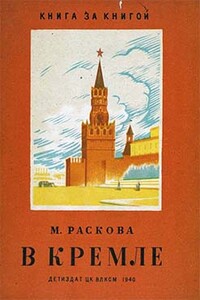- Кушайте, что желаете.
Я переглотнула и взглянула туда, откуда шел голос
- Очень приятно. Вы - дочка Николая Ивановича. Я вас с ним видел. Голова кивала. - Кушайте, не стесняйтесь. И ему скажите, чтобы как-нибудь зашел.
Это был армянин А., последний владелец последнего гастрономического магазина в Москве - через год он был расстрелян. Да, тут мне перепало - я не говорю о еде, я говорю о чем-то, чему не найду слов: перепало голодное унижение, смиренное чувство, что я никто, но как дочка Николая Ивановича могу еще рассчитывать кое-где на бутерброд. И еще: ощущение какого-то падения из глубины моего благословенного колодца просто в лужу, откуда иначе, как на четвереньках, и не выберешься.
"А вот - царь-пушка. А вот - царь-колокол", - объяснял кто-то кому-го, и я, как все, стояла и смотрела, а потом пошла к Пречистенскому бульвару и там долго сидела и ни о чем не думала, и как-то незаметно познакомилась с каким-то студентом, которому на следующий же день принесла свои книжки (вероятно - любимые), которые он никогда не вернул. Потом одна дальняя родственница обещала познакомить меня с одним умным человеком (кажется, впрочем, это была чья-то квартирная хозяйка), сказав: "Вы друг другу очень понравитесь", но, видимо, забыла об этом или умному человеку было не до меня. Потом, в столовке, страшный, худой, с гнойными глазами, пятнистый пес лизнул мою кашу... Потом на Сухаревке у меня украли туфли, которые я пошла продавать, чтобы на эти деньги... нет, не купить сочинения Гегеля, а просто пойти к парикмахеру, который завивал щипцами (мне вдруг ужасно захотелось быть завитой щипцами!). Чему меня учили? Меня не учили, как добывать себе пропитание, как пробиваться локтями в очередях за пайкой и ложкой, за которую надо было давать залог; меня не учили ничему полезному: я не умела ни шить валенки, ни вычесывать вшей из детских голов, ни печь пироги из картофельной шелухи. Из книжных магазинов на меня смотрели тонкие, бледные, желтоватого оттенка книжки - политические брошюры и сборники стихов. Они напоминали мне Людмилочку, тоже желтого оттенка, которая все время икала от голода и вытирала набегавшую слюну кружевным платочком "валансьен". Она была такая бледная, тоненькая. Ее родители тоже были "бывшие".
Все это продолжалось всего четыре месяца - одиночество, неизвестность, что будет дальше, прогулки по одичавшему, жаркому городу, с постоянным бурчаньем в животе, так что я даже была довольна, что какому-то умному человеку оказалось не до меня: я не могла бы скрыть от него этого бурчанья. Еще немного, и я, вероятно, нашла бы путь в восьмой класс гимназии (потому что надо было во что бы то ни стало одолеть тригонометрию и латынь), в библиотеку, в собрание, где кто-нибудь что-нибудь уронил бы в мои пустые ладони, в общество великих, от которых я ждала всего, и в общество малых, с которыми я могла бы вместе подняться из этого падения. Если бы я решилась написать книгу о потерянных годах моей жизни, то она началась бы этими четырьмя московскими месяцами. У меня не было угла, чтобы прочесть книжку, которую денег не было купить, у меня не было друга, которого мне некуда было бы посадить, мне надо было учиться молча думать, смотреть вокруг и в себя по-новому, а я только искала, как воробей или ворона, где бы подобрать какую-нибудь крошку, не упадет ли что-нибудь мне в рот. Мне одинаково хотелось: пойти в МХТ на "У жизни в лапах", и пойти в баню, и поехать в Петровское-Разумовское полежать под деревом. Я как будто лишилась воли выбирать. Это была не бедность и даже не Бедность, это была скудость, как ее ни пиши. То, что было внутри меня, было похоже на то, как если бы человек не знал, что лучше: Самофракийская победа или кусок вареной говядины, и никто, то есть буквально никто вокруг, не знал бы этого, забыл или просто не интересовался такими вопросами. Я исходила все Кривоколенные и другие переулки, я иногда долго смотрела в сумерках в окна чужих домов. Какая-то странная сила сковывала меня, я была в пустоте. Мне даже не очень хотелось выходить из нее. Я была слишком молода, чтобы понять, что случилось: когда я вышла в жизнь, все оказалось не то. Будто мы ехали в лифте на десятый этаж, а когда вышли из лифта, то оказалось, что десятого этажа нет, стен нет, пола нет, крыши нет, ничего нет. А лифт ушел. Я когда-то писала стихи. Я когда-то была влюблена. Я дружила с такими же, как я, веселыми, дерзкими на язык. А сейчас не хотелось и вспоминать об этом. Ничего не снилось. Ничего не сверкало вокруг и во мне. Хотелось есть. Хотелось спать. Иногда хотелось перед вечером посидеть у Манечки в комнате.