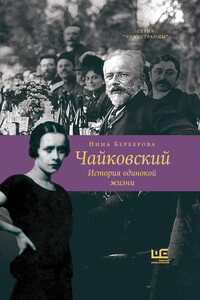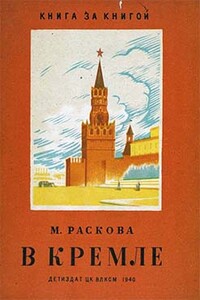Девочки боятся мальчиков, и мальчики боятся девочек, но девочки, когда боятся, говорят себе: "Ничего, как-нибудь обойдется" (но иногда ничего "не обходится"), а мальчики, когда боятся, - и не пытаются близко подойти. Но мы с Осей принадлежим к тем, которые не боятся, не каменеют в присутствии друг друга, не пытаются притворяться, что все в порядке, когда на самом деле все в большом беспорядке и только и хочется быть за тридевять земель. Мы свободны смотреть друг на друга, свободны говорить, что взбредет в голову, свободны сидеть щека к щеке и перебирать пальцы друг друга. "У меня некрасивые руки", - считаю я нужным ему сообщить. "А у меня - красивые", отвечает он, чтобы подразнить меня. Но я знаю, что это правда. И я целую его в губы и в брови. И он целует меня в брови тоже. И нам кажется, что мы первые в мире придумали эти "бровные" поцелуи.
Все дружбы распались в тот день, когда мы уехали в Москву, и я осталась одна - сама с собой, чувствуя, как постепенно во мне начинают образовываться узлы, которых распутать нет умения, как возникают вопросы, которых не с кем обсудить. Никогда я не чувствовала себя такой нищей, как в то лето, в пыли и духоте Никитского бульвара, в чужом месте, лишенной всего, чем я жила до этого. 1918 год, лето, зной и голод, первые столовки, черный сырой хлеб с соломой, перловая каша, чувство - до того мне не знакомой - робости: как войти в Румянцевскую библиотеку? Как посидеть одной на скамейке бульвара? Можно мне поступить в восьмой класс? Или надо искать службу? И что я буду делать дальше в этом мире бывших и будущих людей, в котором я внезапно оказалась?
Некоторые из бывших были уже совершенно прозрачными, с глубоко запавшими глазами и тяжелым запахом; другие еще продавали на толкучке старье, и оттого, что приобщились к коммерции, у них появился жадный блеск в глазах. Новых я видела только издали. Я вдруг совершенно потерялась, не знала, куда мне идти, с кем говорить, и целыми днями, не зная, куда себя девать, стала ходить по улицам. Мне было семнадцать лет. Все трое - отец, мать и я - жили в одной комнате, которую снимали в коммунальной квартире. Я выходила утром и появлялась к вечеру, есть кашу. Я исходила всю Москву, на Сухаревке бритвой мне вырезали спину пальто, на Смоленском бульваре один раз мне стоило ужасных усилий не заплакать. Памятник Пушкину я ненавидела, он все время попадался мне на глаза. Я забредала в странные места. Один раз я услышала тихое хоровое пение, толкнула дверь и вошла в грязный, полутемный зал, где собирались толстовцы. В.Г.Чертков долго говорил о "Льве Николаевиче", потом Сергеенко раздал всем какие-то листочки и все опять запели. Под конец случилось нечто неожиданное: вошел красивый, возбужденный молодой человек и сказал, что он - воскресший Лев Толстой. Это был сын Сергеенки, убежавший в тот день из сумасшедшего дома... Нет, в этом месте мне ничего не перепало.
В другой раз я вошла в калитку где-то у Кудрина, прошла темной подворотней и вошла в сад, полный цветов и солнца. Пруд цвел водяными лилиями, плакучие ивы склонялись над ним, и на скамейках сидели полумертвые от голода и страха люди и разговаривали друг с другом, как будто сидели уже на том свете. Там подсел ко мне какой-то человек со светлой бородкой и сказал, что он вчера донес в Чека на дьякона, с которым жил на одной квартире, и чувствует теперь, что не вынесет этого, и хочет повеситься... Он тоже показался мне полумертвым, а когда я оглянулась - я была одна, и только какой-то инвалид-садовник, обойдя меня, осторожно воткнул передо мною обструганную со всех сторон палочку, к которой была привязана надпись: не трогать цветов!
Однажды я вошла в большой гастрономический магазин - вероятно, последний открытый. Я была очень голодна, но я ничего не могла купить из того, что лежало на широком мраморном прилавке. Я долго смотрела на балык, на салями, на посыпанные маком булочки и особенно на сыр, который тек вокруг себя самого правильной, густой, медленной сырной лужей, расширяясь на глазах. И вдруг из-за прилавка раздался голос: