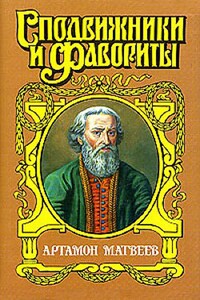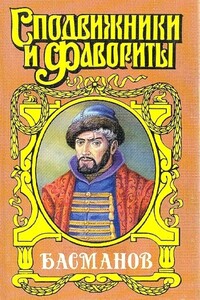— Помянем. Знавал я Гаврилу, вечная ему память… Они опять помолчали.
— А дошло ли до вас, что при штурме Великих Лук мадьяры почитай всех вырезали — только двое воевод спаслись, — потому как и полон избили, а всего более двух тысяч? Имена же их ты, Господи, веси.
— О том нет, не наслышаны, — ответил Александр.
Курбский поколебался.
— Хочу я, — начал он медленно, всматриваясь в глаза монаха, — просить тебя и по этим убиенным отслужить панихиду. Если не можешь, скажи сразу.
— Могу, — ответил иеромонах, поднимаясь. — Отслужу. Да ты сам, княже, приезжай. Приедешь? А теперь пора мне. — Он пошел к двери, на пороге приостановился, сказал: — О панихиде не говори никому, а дело это — Божье, доброе дело.
Октябрь-листопад тоже был теплый, почти не дождило. Пришло письмо от Богуша Корецкого, где он описывал подробности взятия Великих Лук, а также Торопца и Озерища. Письмо его дышало радостью, ликованием даже, странно почему-то было читать такое письмо. Может быть, дома и под стенами крепости разные у людей натуры и мысли.
Писал также Богуш, что канцлер Ян Замойский не верит в болезнь князя Курбского и говорил о том королю, но Григорий Ходкевич написал королю еще после взятия Дерпта и потом спорил при короле с Замойским — защищал Курбского, и потому король сменил гнев на милость, но Курбскому надо бы появиться в войске, как только Бог здоровья даст, а то враги его сильны и Радзивиллы, родственники его бывшей жены Марии, всюду его поносят.
Курбский читал все это без гнева, ему не хотелось ничего никому доказывать — все дела его казались теперь почти ничтожными рядом с ночными ужасами. По ночам он просыпался иногда весь в поту, но что видел — не мог припомнить. Каждый вечер и каждое утро он читал от слова до слова все молитвенное правило, но как-то тоже безразлично, по привычке. Лишь раз его словно толкнуло под грудь от слов: «…И избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий…» Он повторил их дважды, а до этого повторял ежедневно много лет подряд и не замечал ничего особенного.
Дни стали короче, ночи — темнее и длиннее. Просыпаясь, он подолгу смотрел на крохотный язычок огня за зеленым стеклом, ждал, когда рассосется спазма в затылке. Он мечтал о сне без сновидений, но, видно, Бог перестал его слышать.
…Алешка спал в сгибе его локтя — растрепанная головенка, теплая, нетяжелая, закрытые глаза, ровное детское дыхание. Иногда по лицу проходила изнутри еле заметная волна — какой-то сон видел Алешка, хороший, наверное, потому что губы его чуть вздрагивали в намеке улыбки. Они спали на сеновале, и уже рассвело — под застреху светило все яснее розоватым восходом, стали видны сухие смятые стебли трав и цветов; от сенной сладковатой трухи першило в носу, но он боялся чихнуть, чтоб не разбудить Алешку. Он смотрел на него, и все теплее, радостнее, спокойнее становилось в середине груди, словно там таял долголетний заледеневший ком снега, грязного и кровавого, и горячие ручьи выносили из тела ил и мусор, вымывали, очищали, освобождали, и он сам улыбался неудержимо, потому что Алешка оказался жив и вот они навеки теперь вместе на этом знакомом сеновале… Он не заметил, как Алешка исчез: был сеновал, была вмятина в сене от детского тельца, до каждой травинки все было ясно, достоверно, а вот Алешки не было. И тут опять извне из какой-то злой и слепой страны донесло отчаянный мальчишеский плач-зов, и он вскочил на ноги в поту и ужасе.
Он стоял в зеленом полумраке своей спальни, а за стеной продолжался этот плач-зов, но уже наяву. Он одевался лихорадочно, потом разбудил слугу, собрал деньги, бумага, велел запрягать спешно и в третьем часу ночи бежал молча, бессмысленно по дороге на Ковель.
Двадцать верст до Ковеля, осенние грибные запахи опушек, стаи грачей и дроздов, собиравшихся к отлету, багровые осинники и сжатые поля — все это немного успокоило его, но возвращаться он и думать не хотел. Кирилл Зубцовский принял своего князя с почетом и заботой, только по недогадке отвел ему ту самую комнату, в которой Курбский последний раз встречался с Марией, и поэтому уже на второй день опять увязывали телегу, запрягали коляску — князь приказал ехать на богомолье в Вербский Троицкий монастырь.