В августе 1888 года Куприн получил аттестат, в котором значилось, что «названный кадет, при хорошем поведении, успешно окончил полный курс кадетского корпуса». Можно только посочувствовать Любови Алексеевне, представляя, до какого унижения ей пришлось дойти, вымаливая фразу о хорошем поведении. Тем не менее никакие ее хлопоты не смогли бы исправить картину успеваемости сына, а значит, в выпускном классе он все же взялся за ум. И все же пошел по пути наименьшего сопротивления: стал юнкером 3-го Александровского военного училища. Оно занимало целый квартал между Пречистенским бульваром, улицей Знаменкой и Большим Знаменским переулком. После отдаленного Лефортова Саша оказался в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.
Став юнкером, Куприн усвоил неписаный закон: «Александровец, на тебя вся Москва смотрит!» Надо полагать, именно тогда он стал осознанно относиться к Москве, полюбил ее. На склоне лет, в эмиграции, он с удовольствием окунался в переживания юности и тщательно выписывал детали московской жизни, ушедшей навсегда: «Москва... оставалась воистину “порфироносною вдовою”, которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург с его сухостью, узостью и европейской мелочностью не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала» («Юнкера»).
Хотя и не коренной, но определенно москвич, Куприн этим духом вполне пропитался. Он не сможет полюбить Петербург.
Саше предстояло провести в училище два года и выйти с младшим обер-офицерским чином подпоручика. Волнуясь до обморока, стоя в ряду других юнкеров на училищном плацу, он торжественно повторял за батальонным священником текст присяги: «Обещаю и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием, в том, что хощу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови...»
Детство кончилось. Здесь все было всерьез, и вскоре после присяги Куприну выпала возможность почувствовать себя воином, от которого зависят судьбы страны. Он воочию увидел своего императора.
Повод для посещения Александром III Москвы был невеселый. 17 октября 1888 года он с семьей едва не погиб в железнодорожной катастрофе на станции Борки, под Харьковом. Россия, всего семь лет назад трагически лишившаяся его отца, Александра II, содрогнулась. «Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда», — вспоминал Куприн свое тогдашнее смятение.
И вот весь Московский гарнизон выстроен по пути следования императора от вокзала до Кремля. Александровны стоят от Золотой решетки до Красного крыльца. Александров, автобиографический герой «Юнкеров», в первой шеренге. Он видит помост, покрытый ковром, и думает: неужели возможно, что царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах? Ждут долго. Но вот грянул их училищный оркестр, и показался Он.
«Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, ласково и прямо устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.
Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой... И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига» («Юнкера»).




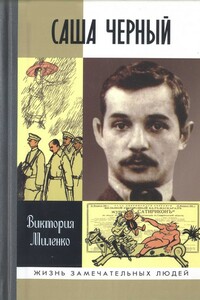
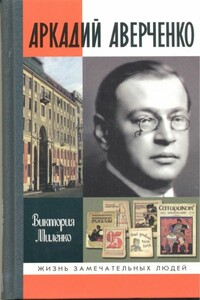

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)
