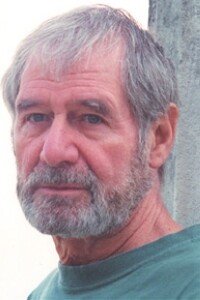Каждый раз, получая уведомление о рождении ребенка, я думаю, что мне совершенно не хочется поздравлять счастливых родителей.
Я завидую. И раздражаюсь, когда спустя несколько лет безмятежные родители с восхищением демонстрируют мне фотографии своих обожаемых чад, цитируют их последние смешные высказывания и хвастаются успехами. Довольные отцы и матери кажутся мне нахальными глупцами. Фанфаронят передо мной, как владельцы Porsche перед водителем столетней развалюхи.
– В четыре года уже умеет читать и считать! Подумай только!
Меня не жалеют, мне показывают фотографии с дня рождения малыша: вот он задувает четыре свечки на торте, а вот счастливый папа снимает сына на камеру. Чувство зависти заставляет меня вообразить невесть что – пламя свечей, перекинувшееся на скатерть, на занавески, на стулья, дом охвачен огнем, празднику конец.
Да, да, да, ваши дети самые умные, самые красивые в мире. А мои – уроды, идиоты. Уж извините! Недоглядел как-то.
В пятнадцатилетнем возрасте Матье и Тома не умеют ни писать, ни читать и практически не говорят.
Мы с Тома давно не виделись, поэтому вчера я его навестил. Он все чаще проводит время в инвалидном кресле. Передвигается с трудом. Узнав меня, он тут же спросил: «Куда мы, папа?»
Он все сильнее горбится. Я вывозил его на улицу. Он, как всегда, говорил бессвязно, повторялся, и хоть бы крупица смысла! Часто обращался к собственной руке. Потом надолго умолкал.
Он отвел меня к себе в комнату. Там светло, стены выкрашены в желтый, на кровати сидит Снупи. Над кроватью висит рисунок – паук, запутавшийся в паутине, или что-то вроде того, одна из дебютных работ Тома.
В новом корпусе, куда перевели Тома, живут двенадцать человек, взрослые, похожие на старых детей. У них нет возраста. Наверное, они все родились 30 февраля…
Самый старый курит трубку и показывает воспитателям язык.
Еще есть слепой, который ощупью пробирается по коридорам.
Некоторые здороваются, но в основном больные меня игнорируют. Иногда раздается крик, затем воцаряется покой, и только тапочки слепого шаркают в тишине.
Два-три человека валяются на полу посреди холла, смотрят в потолок, смеются без причины. Через них приходится переступать.
В медико-педагогическом институте не страшно, там странно и порой даже красиво. Медлительность больных, плавные грациозные движения их рук и ног – все это напоминает какую-то современную хореографию или театр Кабуки[19]. С другой стороны, пациенты, которые машут руками и бьются в конвульсиях, вызывают неминуемые ассоциации с автопортретами Эгона Шиле[20].
За столом сидят двое слепцов и держатся за руки. Неподалеку от них – почти лысый седой человек, он похож на нотариуса, его легко представить в сером костюме-тройке, правда, на нем слюнявчик, и он то и дело повторяет: «Кака, кака, кака…»
Здесь все позволено, любая эксцентричность, любое безумие, никто никого не судит.
Здесь серьезный человек, который ведет себя нормально, производит впечатление белой вороны и даже идиота. Над ним впору смеяться.
Здесь мне хочется наплевать на условности и позволить себе сойти с ума.
В МПИ все всем дается тяжело. Иногда самая легкая задача становится непосильной. Одеться, завязать шнурки, застегнуть пояс, открыть молнию, взять в руку вилку.
Я смотрю на старого двадцатилетнего ребенка. Воспитатель учит его самостоятельно есть зеленый горошек. Я вдруг осознаю масштаб малейших движений повседневной жизни для человека, не способного держать вилку.
Крохотные победы оказываются вдруг равными золотым медалям на Олимпийских играх. Человек зацепил вилкой несколько горошин и поднес ко рту, не уронив обратно в тарелку. Он гордится собой и смотрит на меня сияющими глазами. В его честь и в честь его тренера стоило бы сыграть национальный гимн.
На следующей неделе в МПИ большое спортивное мероприятие, 13-й сезон межинститутских соревнований. Участвуют наименее больные пациенты. Состязания очень разнообразные: метание дротиков в мишень, стрельба по мишени, баскетбол, гонки на трехколесных велосипедах. Вспоминается рисунок Райзера – Олимпийские игры для инвалидов. Весь стадион увешан плакатами: «Смеяться запрещено».