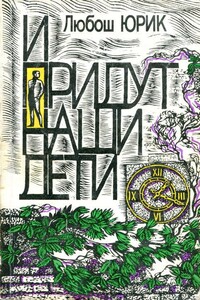Потом сами рисовать начали картинки к сказкам. Этот альбом с нашими картинками и теперь у меня с собой, весь слезами моими залитый и поцелуями покрытый.
В школу пошла Люся. Анюта ей туалетов нашила – загляденье. На празднике в школе она и принцессу играла, и Белоснежку, волосики у нее длинные, золотистые были, глаза голубые, как мои и у отца моего Матвея, а сама вся такая как снежиночка легонькая. Бывало, подхвачу ее на руки, кружить начинаю, пушинка словно, хохочет-заливается: “Отпусти, – кричит, – папка, уже весь смех из меня вышел!” – а я прижимаю ее к груди, и будто одно у нас с ней сердечко колотится. Счастье такое, что огнем жжет. Училась она очень хорошо, в старших классах случаем и нам какую книжку прочесть рекомендовала, мы с матерью читали. Мне-то по вечерам не больно хотелось про фортели всяких там изнеженных негодяев читать, но я читал и, поскольку видал, что Людмила вроде сочувствует им, сочувствовал на словах им и сам. С матерью-то у них лучше разговаривалось, иногда допоздна на кухне чего-то шепчутся, хохочут, вроде обсуждают кого. Я целовал их обеих, да и шел спать, пусть, думаю, мать жизни ее по-женски поучит, чего мне-то им только компанию расстраивать.
Подружек у нее много было, ведь сама она и разговористая, и улыбчивая, и, когда соберет подруг своих в доме, я все сравнивал, какая из девушек лучше других, и всегда решал, что моя.
Потом у ней уже в конце школы завелся кавалер, парень яркий, но какой-то шалый, все гулять ее водил да по кино. Мы с матерью волноваться начали, по ночам все переговаривались, как бы не вышло чего.
Но несчастье выпало нам иное.
Было это летом. Она школу закончила и собиралась в медучилище поступать, готовилась много и вот собралась поехать отдохнуть, родители ее подружки пригласили ехать на машине за город, к озеру, покупаться, позагорать. Ну мы-то с матерью не против были, думали, что все сидит дома за своими книжками, так пусть хоть немного воздуху глотнет, двигаться-то надо ведь. Утро было ясное, солнечное, ни ветерочка, позавтракали мы, в дорогу ей собрали, день я тот по минутам запомнил, она сарафан в вишнях надела, косынку белую на голову, мать поцеловала, а мне рукой махнула несколько раз. Радостно так, любовно. Ну, поехала. День воскресный, я антресолю мастерить начал, давно Анна допекала меня “построй, а то не дом у нас, а свалка”. Анна чего-то по хозяйству, белье варит, обед готовит. Ждали мы Люсю только к вечеру, поэтому не спеша управлялись, разговаривали промеж себя, чего на зиму купить надо, да какие новые одежки Люське надо будет справить, ведь если в училище поступит, так там уж и первые серьезные ухажеры могут найтиться, что ж, за будущего врача пойти – дело. Так мы весь день и проколготились, чаек, помню, раза четыре пили за день, потные все сидели, жарко, лето, окна распахнуты, а через них в дом и звуки разные попадают: и машина слышна, и воробьиный чирик пробивается, и малец какой-то все никак угомониться не может, кричит, чертененок, на всю улицу.
Время прошмыгнуло незаметно, уже и восемь, и девять, и десять, а Люськи все нет. В половине одиннадцатого, как сейчас помню, словно током пронзило нас с Анной, поняли мы, что беда пришла, но какая беда – не знали. Маялись. Анна у окна стояла, раскачивалась и песню какую-то заунывную такую пела, сейчас уже не помню, что это была за песня…
Около полуночи позвонили в дверь. Милиционер пришел.
– Такие-то? – спрашивает. – Автомобильная катастрофа, следуйте в такую-то больницу по такому-то адресу.
Пришли мы. Как нам ее сарафанчик, косынку и сумочку выдали, Анна чувств лишилась, а я держу Люсечкины вещи в руках и все спрашиваю, а что спрашиваю, и сам не пойму, говорю, словно рыба рот раскрываю, а звука никакого нет.
Через полгода забрали мы ее домой, неподвижную, неговорящую, осунувшуюся, не то что повзрослевшую – постаревшую. Раздобыли коляску инвалидную, вывозили ее иногда на балкон, подышать, солнышко увидеть. Врач сказал, видит она точно, а вот слышит ли – не знал. Я тогда на пенсию ушел, мне как раз шестьдесят пять стукнуло, сижу все рядом с ней, разговариваю, книжки читаю. Мать готовит нам, кормим ее из ложечки, убираем за ней, ночью все глаза выплакали, при ней-то держимся, врачи говорили, вроде понимает она. Мать стала качать ее, пока не уснет, детскими именами называть, я однажды отлучился в магазин, прихожу, а она ее грудью кормит. Испугался я, Анну в клинику увезли, полгода ездил к ней, но ум ее совсем, видать, помутился, все про погремушки да про пеленки толкует. Врачи сказали, вроде у нее и взаправду молоко появилось, хотя было мнение, что это скорее от порошков, которые ей дают.