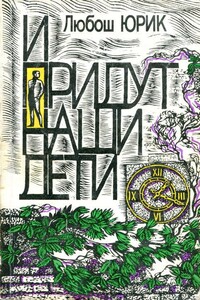Он вдруг представил себе, как пришли забирать тело задушенной девушки, как оно выглядело, это тело… Он тут же соскользнул на себя самого, представил себя голого, обделанного на оцинкованном (или они теперь пластмассовые?) столе для покойников, с какими-то кровоподтеками на ребрах, впалые глазницы, склеившиеся холодные волосы на затылке… Воображение всегда было одной из самых мощных мировых сил, разместившихся в его голове. В юности он закрывал глаза и, держа рукой запретное место, представлял себе предмет своих желаний в немыслимых позах, говорящей неслыханные слова. Воображение часто соединяло его с желаемыми женщинами, и он наслаждался сполна, а потом, наяву, все выходило значительно хуже.
Воображение работало на него и в иной сфере; иногда, когда он уже занимался всякого рода оформительскими делами, после изгнания из искусствоведческой аспирантуры за «несоответствующие времени» взгляды. Еще воображение позволяло ему подглядывать сквозь стены за другими людьми. Он видел, словно наяву, как, к примеру, Борька Соколов, распрекрасный художник, на деньги от продажи картин которого он сейчас отчасти и доживал, лижет зад мерзкому боссу, дабы выклянчить из-под него себе выставку, а босс этот его за бороду таскает и говорит, мол, не дозрел ты еще, Борис Кактебятам, до выставки, ты лучше пока портретец моей жены изобрази, а мы на твое мастерство и поглядим.
Как раз недавно они с Мартой вспоминали, как встретили его на улице, толстого, взъерошенного, потного, как он потащил их к себе в мастерскую, угощал: на столе вареная картошка, кислая капуста, соленые огурчики с мизинчик, ледяная водка. Баб каких-то назвал, народу к вечеру собралась уйма… Потом, когда они уходили, все дружки его с этими бабами уже по углам на надувных матрацах делом занимались. «Я, – говорил Борька, – праздную сегодня свой последний день рождения. Мне, ребятки, сегодня тридцать семь. Это для нас, для гениев, последний рубеж». Они выпили за гениев, на прощание он подарил Ласточке с Мартой три картины, две ему, одну ей, – и вдруг на пороге стал хватать его за рукав: останься, а? зябко мне в этом содоме, бо-бок, понимаешь, бо-бок… – Ласточка хорошо помнит, как он стряхнул Борькину руку, потную, вонючую, – Марта с картинами уже стояла на улице, – и сказал: «Борух, мне придется нести эту куртку в химчистку». Наутро перетрахавшиеся его друзья и подружки дрожащими руками вынимали его из петли в уборной, уже окоченевшего. Марта в Америке написала о нем несколько статей для газеты, его сделали очень модным на Западе художником, кажется, и биография его уже вышла на разных языках, и выставок ему по всему свету наустраивали множество.
Воображение часто губило его, сулило золотой, а выходил пятак, но главное – теперь, теперь, когда только одна картинка, только одно живописное полотно, и всегда натюрморт, на столе, в гробу, темень от закрытой крышки, языки пламени. Здесь у него не было выбора – в землю идти или в огонь. Хоронить в землю здесь – слишком дорогое удовольствие, везти целиком тело домой на радость маме, счастливо доживающей свою старость с благообеспеченным, обожающим ее внешнеторговцем, – непозволительная роскошь. Поэтому выбора не было. Его кремируют, он написал распоряжение, и похоронят здесь, на том самом знаменитом кладбище, где по ночам покойники переговариваются на чистейшем русском языке.
А обожающий мамочку спутник жизни, которого она при посторонних шутливо называет «дядя Слава», уж изыщет государственные средства свозить ее раз в год на могилу сына отведать устриц.
Воображение было теперь его главной проблемой, и именно для борьбы с ним он принимал разные успокаивающие пилюли, которые всегда прописывают всем умирающим. Вот и после этого письма он выдавил из голубоватой пластиночки две таблетки – так он оценил мощь его воздействия – и проглотил их в надежде на то, что они быстренько вытащат вилку из розетки и в его жадное воображение перестанет поступать ток.
Это было второе из прочитанных им писем.
Первое письмо он прочел некоторое время назад после первой ремиссии. Это было письмо шизофреника, то ли философа, то ли физика, то ли школьного учителя истории, с точностью сказать трудно. Письмо философски-обвинительное, и он, чтобы перебить впечатление от только что прочитанной истории, решил перечитать его, полагая, что оно только усилит эффект транквилизаторов и пойдет на пользу разволновавшемуся сердцу.