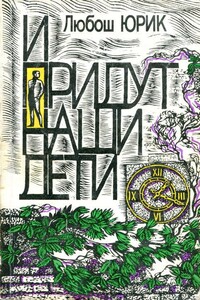Полная скованность, а под ногами жижа. Через секунду будет вода и жестяной волос, искрящийся до боли нож.
Все раскромсано: зеленые плавки, затылок, белое небо, песок, рыбы. Рыбы страшнее всего. Боль шевельнула своим жестяным волоском, превратившимся тут же в жилу, в канат, в шампур. Осколки жгут память. «На этот раз не было звука», – мелькает у него в голове, и он втягивает носом воздух, прежде чем открыть глаза.
Выдох.
Розовый свет сквозь веки.
На глазах камни.
Комната.
Страшный шум с улицы, разглядывать который в сотый, в миллионный раз – не сейчас…
– Ты спал?
Ровный голос, сине-фиолетовый, некогда столь сумасшедше любимый.
– Нет, – отвечает он, не поворачивая головы.
– Укол?
Симуляция обыденности, подавленная тревога, подражание профессионализму медперсонала.
– Пока нет.
– Будем обедать?
Он называет ее Мартой, хотя у нее совсем другое, красивое имя. Он называл ее Мартой, потому что они познакомились именно в марте, и это было так давно, что между днем знакомства и сегодняшним днем пролегла целая жизнь. Он хорошо помнил, что в той, иной жизни, в которой произошло их знакомство, они пережили друг к другу страсть, они сломали свои предыдущие жизни и провели двенадцать лет вместе в крошечной квартирке в том самом городе, где родилась она и где родился он. И длилось это до того момента, как она выбросила из окна его вещи, моментально, импульсивно, не делая различия между тем, что бьется и что ломается, не простив того, на что закрывала глаза сотни раз и что было свойственно, нужно сказать, в полной мере и ей самой, – измены.
Она столь же стремительно уехала на другой конец света, оторвавшись от него пространственно и даже загадочным образом во времени, отставая на добрую половину суток и находясь по отношению к нему почти всегда «вчера». Она жила у какой-то своей подруги, деля с ней, как он подозревал, не только кров, но и постель, ездила на велосипеде, глотала сэндвичи, перешла, он был уверен в этом, на любимый «золотой» Winston, довела до совершенства свой и так всегда бывший элегантно-провоцирующим облик: узкие, как у мальчика, бедра теперь подчеркивались джинсами нужной модели, а маечка была нужного цвета и с правильным вырезом.
А потом появился и «умопомрачительный костюм» – это когда уже была первая работа в библиотеке, – который делал из нее, высокой, смуглой, вызывающе коротко стриженной, с алым, как рана, ртом, настоящую секс-бомбу. И результат не замедлил сказаться: она нашла, соблазнила, увела (немыслимо!), вышла замуж и переехала сюда, в Европу, в город, о котором она мечтала всю жизнь.
Их завтраки, обеды и ужины призваны были имитировать нормальное течение жизни. Для него они становились все более и более символическими. Ему казалось, что пища приближала его конец. Но он для поддержания общения съедал по ложке всего, и Марта делала вид, убирая со стола, что не замечает его почти нетронутых тарелок. Они разговаривали мало. В самом начале они осторожно разглядывали друг друга, он понимал все, что видел, но эмоций не чувствовал, боль и болезнь убили почти все эмоции, направленные на внешний мир. Он даже почти уже не переживал то зрелище, которое представлял сам.
В начале болезни он часами проводил время у зеркала. С каким-то даже странным сладострастием он подмечал и периодически инвентаризировал все с поразительной быстротой нарастающие черты деградации и умирания. Теперь же, когда все говорило о скорой развязке, он совершенно потерял интерес к своей внешности, только время от времени разглядывал свою полупрозрачную руку, протягивая ее навстречу солнечным лучам. Почему-то охотнее он выбирал для этой цели именно закатное солнце, и каждый раз констатировал, тщетно пытаясь вспомнить название некогда обожаемого им романа, где как раз это качество ставилось главному герою в заслугу и отличало его от всех прочих обитателей созданного писателем мира, – прозрачность. Так вот, он был прозрачен, проницаем, легок как воздух, как стекло, как мысль младенца.
Его звали Ласточка.
Между ним и Мартой неясностей не было: она вытащила его сюда умирать, потому что здесь умирать комфортнее.