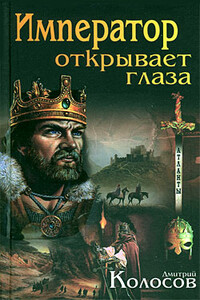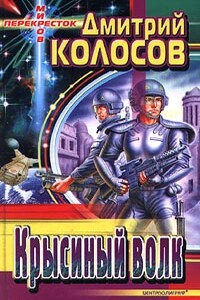Прошел день, пришла ночь. Я так и не сумел заснуть. Я даже не осознал, сколь долго была та ночь. В тюрьме вообще теряешь чувство времени. Обозначенное для нормальных людей месяцами и годами, разграфленными черно-белой круговертью сменяющихся дней и ночей, и плавно переливающее свое естество из сегодня в завтра, время для заключенного, помещенного в каменный мешок, превращается в отсчет мисок с безвкусной баландой. Длинная, бесконечно длинная миска, похожая как две капли на предыдущую. Лишь единожды в неделю остается ощущение некоего разнообразия, а если без пафоса, это вкус дополнительного блюда, которое единственно могло считаться олицетворением времени. И вновь нескончаемая серость, претендующая на звание вечности, но являющаяся безвременьем. Время исчезало. Оно не замедляло и не ускоряло свой бег, уступая место неестественному измерению, которому не было места в нормальном мире. Измерение, выражающее ничто — бесцветное, безвкусное и почти безобидное. Совершенно безобидное, если не задумываться над тем, что где-то рядом, слева ли, справа, разлитое в воздухе или серости стен, незримо скользит время, подобно медленной, но настойчивой реке, лениво струящейся мимо. Река, пробегающая у ног, совершенно не затрагивающая тебя и необратимая; и твое время, обозначающее жизнь, твой крохотный ручеек-миг, что никак не может влиться в эту реку. Он напрягает все силы, упорствует, но никак не может пробить стену безвременья, отделяющего его от общего русла времени. Он растворяется в этом безвременье, порождая ощущение напрасно прожитого. Странное ощущение, если над ним задуматься.
И еще — ощущение безвозвратности. Почему-то в моем представлении оно связано именно с рекой. Быть может, потому что река есть наглядное движение. Размеренное дыхание моря, даже если оно хрипит бурей, отдает постоянством. Бег лани слишком легок и быстролетен. В нем много от ветерка, но ничего от ветра. В нем нет ничего от стихии и необузданности, присущей убегающей вдаль воде, нет категорийности. А чтоб осознать время, необходимо мыслить именно категориями. И потому мы говорим о реке, чьи воды плавно скользят за отлогие косогоры, и никогда не повернут вспять, и никогда не вернутся. Нет, конечно же они вернутся, но для этого должен пройти Великий Год — отрезок Вечности, масштаб которого не сумел точно обозначить никто. Но и многократно, вечно повторяющийся Великий Год по своему безвозвратен. Пусть даже он лишь матрица от свершенного и несвершившегося. Все равно будущее и прошлое с корнем выдирают его из черного ряда вечного и нарекают настоящим.
Когда человек задумался над тем, что есть настоящее, приходящее из будущего и исчезающее в прошлом, он впервые осознал сущность времени, выразив словами древнего мудреца такую простую и великую истину, что в одну реку нельзя войти дважды. А если и можно войти, то уж никак нельзя выйти. Это говорю вам я, постоялец тюрьмы Сонг, один из тех, кто знает, о чем говорит.
Странно чувствовать, как взбудоражено сознание. Я давно научился спокойно относиться ко всему, происходящему вокруг. Верно, потому, что вокруг ничего не происходило. То, что случилось сегодня, было единственным событием за те десять лет, что я провел в тюрьме Сонг. Событием странным, почти неестественным. Я ждал его, я надеялся, что нечто должно произойти. Но я и предположить не мог, что оно произойдет в подобной форме. Свобода! Я жаждал свободы. Свобода означала чудо, но я готов был уверовать в чудо. Почему бы и нет, когда очень хочется уверовать. Почему бы Совету не принять новые законы, пересмотреть мое дело, может же, наконец, грянуть какая-нибудь амнистия! Только вот по поводу чего? Ожидание чуда, заключенное в формуле: не верую, но надеюсь. Надежда великая вещь. Один человек открыл, что она умирает последней, другой же осмелился предположить, что последней все же умирает любовь. Я не знал, кому верить. Быть может, оба они правы. Но мне некого было любить и не на что надеяться. Я любил все то, чего был лишен, и. надеялся обрести его, точнее, вернуть его себе, ибо когда-то оно уже принадлежало мне. А вернуть все означало вернуть свободу, потому что именно она заключала в себе все. Но за свободу почти наверняка пришлось бы заплатить жизнь.