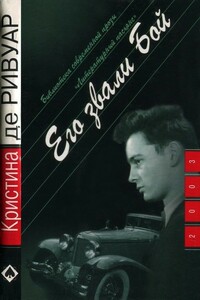Вальтер сунул мне бутылку.
— Допивай! — сказал он. — Вот! Я же говорю — хороший парень. Стиль XXI века. Сразу — весь театр. Взорвали бы — история пошла по-другому. Больше надо было взрывать. История бы не шарахалась из стороны в сторону…
Я допил. Вальтер забрал бутылку, открыл дверцу, поставил бутылку на асфальт, достал другую.
— Я начинаю сомневаться, что ты немец, — сказал Потехин.
— Я сам в этом сомневаюсь, — Вальтер посмотрел на меня: — Чувствую, в Киеве было интересно. Мы еще вернемся к этому вопросу, но пока о спасении твоей бабушки, — его глаза начали косить, на кончике носа висела маленькая мутная капелька. — Битте!
— Бабушка сказала Блюмкину, что происходит, что жрать нечего, что муж на Лубянке, и Блюмкин дал ей такую трубочку, в банковской бумаге с печатью, там были золотые монетки, новенькие червонцы, сказал, что получил деньги на экспедицию в Гималаи, обещал помочь, сказал, что поговорит с Бердниковым, видным чекистом, бывшим эсером, который должен был знать деда… — В каком году это было?
— Кажется, в двадцать третьем, в декабре…
— И?
— Что «и»?
— Поговорил? С этим Бердниковым.
— Деда выпустили. Без предъявления обвинения. А кого-то тогда даже расстреляли, из эсеров. Это у них была разминка…
Мы неожиданно тронулись с места. Меня сначала отбросило назад, потом качнуло вперед.
— Держаться! — громко сказал Вальтер. — Держаться, камрады!..
…Вальтер, как признался мне в обезьяннике Потехин, еще на поминках сказал, что хочет пройтись по Красной площади, хочет взглянуть на Мавзолей. Наша троица — сильно седеющий — я, с залысинами и тонзурой — Потехин, морщинистый, загорелый, как яхтсмен, кадыкастый — Вальтер — не возбуждала подозрений. Темные костюмы. Солидные люди. Несмотря на нарастающую паранойю, на Беслан, Норд-Ост, взрывы в метро, несмотря на распространяющийся страх, было видно, что мы абсолютно безобидны. Мы не были даже особенно пьяны. Водка нас не брала. Но лишь только мы оказались на Красной площади, Вальтер как-то напрягся, его походка стала деревянной, он шел, словно внутри него стержень, он замолчал, напротив Мавзолея остановился, упал на колени и заплакал. Зарыдал. Слезы потекли ручьем.
— Прости нас, прости! — сказал Вальтер. — Мы просрали твое дело! Прости! Битте! Entschuldige bitte![8]
Мы с Потехиным онемели. Потом попытались Вальтера поднять: мол, духота, жара, плохо с сердцем. Какие-то в штатском, только что казавшиеся то ли праздными туристами, то ли шедшими по своим делам через Красную площадь простыми москвичами, несколько мужчин и даже одна невысокая, мускулистая женщина, подскочили к нам, двое подняли Вальтера на ноги, другие схватили нас с Потехиным за руки — мускулистая женщина схватила меня за левую руку, от нее плотно пахло дезодорантом, она смотрела мне в лицо, но не в глаза, в середину лба, — обхлопали по карманам и быстро потащили прочь.
— Спокойно, — повторяла женщина. — Спокойно! Не волнуйтесь! Не нервничайте!
— Я… Я не нервничаю, — только и успевал отвечать я, а нас уже тащили по Ильинке, мы оказались в отделении, милицейский прапорщик, заперев за нами решетку, зевнул, сдвинул фуражку на затылок, почесал переносицу, зевнул еще раз.
— Документики! Кладем сюда! — он кивнул на свою широкую ладонь и для наглядности пошевелил короткими пальцами. — И все из карманов достаем. Сами! Курево можете оставить, но курить запрещено.
Мы с Потехиным достали паспорта. У Потехина был только паспорт, у меня, помимо него, ключи от дома, кошелек. Вальтер уже сидел на лавке, упершись локтями в колени, подперев кулаками подбородок.
— Вам, гражданин, особое приглашение нужно? — спросил у него прапорщик.
— Нихт ферштейн, камрад! — ответил Вальтер. — Нихт ферштейн![9]