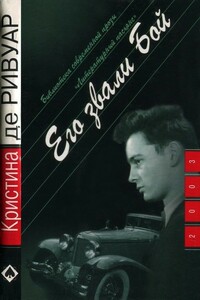— …и тогда он позвонил сам, пригласил выпить кофе, кофе с булочкой в гостиничном буфете. Дядя Карл признавался, что очень любил твою мать, любил больше всех своих женщин, даже больше своей жены, но там было все скорее подчинено службе, они вместе работали, причем — в разных странах, правда, жена несколько раз буквально спасала Карлу жизнь…
Мы выскочили на Большой Каменный мост и неожиданно встали в пробке. Я посмотрел налево. Был виден голубоватый, выходящий на набережную дом, приземистый, длинный, уходящий боковиной на Ленивку, с проходом посередине, во двор. Ни дома, где Софья Ландау, Андрей Каморович и их дети жили до войны, ни дома, где Софья жила с дочерью Эрой после войны, видно не было, только — если приглядеться — крыши: и того, что теперь смотрел на новодельный храм Христа Спасителя, и того, что располагался на Волхонке. Водители выключали двигатели, тех, кто выходил из машин, просили вернуться на место словно из-под земли появлявшиеся полицейские. Там, впереди, должен был проехать правительственный кортеж.
— Спасение чьей-то жизни — залог собственного спасения, — сказал Вальтер.
— Запиши! Обязательно запиши! — сказал Потехин.
— Зря смеешься, — Вальтер был серьезен, серые глаза его смотрели жестко. — Мой отец спас нескольких французских евреев. Они уже были в Дранси, в лагере, откуда эшелоны шли в Освенцим. Он их спас. Он говорил, что поехал туда ради одной еврейки, а вывез нескольких.
— А остальные поехали в печь, — сказал Потехин.
— Что он мог сделать? Когда его судили, некоторые из тех, кого он спас, свидетельствовали в его пользу.
— Так он просто понимал, что вашему нацизму капец, готовил себе аэродром. Соломку стелил.
— Так! Нацизм был трагической ошибкой. И спасал он тогда, когда егеря ставили флагшток на Эльбрусе. Все были уверены в победе. Отец не стелил соломку.
— Не стелил, так не стелил. Тебе спасали жизнь? — Потехин посмотрел на меня.
— Нет, не спасали. Единственной, кому спасали жизнь в моей семье, была бабушка. Сначала — дед и его подруга, Мышецкая, потом Блюмкин.
— Кто? — спросил Потехин.
— Он убил германского посла, — ответил за меня Вальтер. — Восемнадцать лет. В восемнадцатом году. Хороший был парень, мой стиль. Как он это сделал?
— Убил посла?
— Нет, спас жизнь твоей бабушке, — Вальтер вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку водки, свинтил крышку, сделал большой глоток, передал бутылку Потехину. Потехин отпил, передавая бутылку мне, посмотрел на Вальтера с уважением.
— Деда арестовали как активного эсера, готовили большой процесс, большевики хотели зачистить поле. Бабушка была беременна Львом, братом матери, которой тогда еще и в проекте не было, дочь старшая, Майя, болела, денег не было совершенно, ни на лекарства, ни на еду, она шла на свидание с дедом, — я отхлебнул, водка была как вода, — декабрь, холод, метель, и тут останавливается лихач, а там сидят Блюмкин и какая-то шикарная баба, и Блюмкин говорит: «Софа! Куда ты идешь с маленьким ребенком в такую погоду?»
— Интересно — как он ее узнал? — спросил Потехин.
— То есть?
— Ну, зима, пальто или шуба, платок и тому подобное, — он взял у меня бутылку, сделал несколько глотков, отдал бутылку Вальтеру. — Этот Блюмкин едет с бабой в лихаче… Странно…
— Такое бывает, — Вальтер критически осмотрел остаток водки, запрокинул бутылку так, что саданул донышком по потолку салона. — Этот Блюмкин был профессионал. Он одним глазом смотрел на бабу, другим по сторонам. Но шутки в сторону — откуда они были знакомы?
— Идите вы на хер! Не буду ничего рассказывать!
— Не обижайся, майн веттер[7]! Семейные предания — самое дорогое, что есть у нас, они очень часто обрастают самыми немыслимыми подробностями, но в сердцевине своей они несут правду. Так откуда они друг друга знали?
— Они познакомились в Киеве. Дед приехал туда после убийства Эйхгорна, у него было задание убить Деникина, познакомился с бабушкой, спас ее от погромщиков, а Блюмкин, перебежавший к большевикам, требовал отдать эсеровский динамит, а когда дед, Каховская и их руководитель Ривкин отказались, предлагал взорвать киевский оперный театр вместе с Деникиным и со всеми прочими…