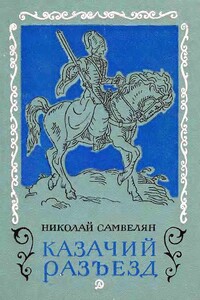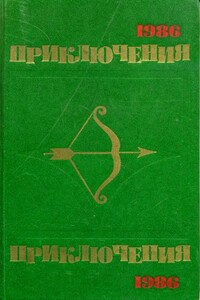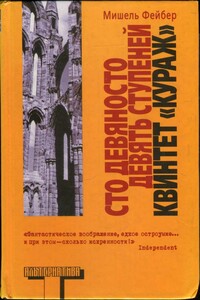— Зачем ее отрицать? Она существует. Но вот беда — провели ее не в том месте, где следовало. И отрезали Феодосию от моря. Теперь, чтобы выйти к пляжу, надо долго брести по шпалам.
— Выходит, и вы противник творчества Айвазовского?
— Такого я не говорил! — удивился Владимир. — Беседовали мы пока что вовсе не о творчестве Ивана Константиновича, а о его чинах, поместье, могиле хана и железной дороге. Как художник Айвазовский совершил настоящий творческий подвиг…
— Говорить о творческих подвигах в искусстве есть заблуждение, — сказал Зауэр, разглядывая холеный длинный ноготь мизинца левой руки, — слова нужно употреблять по их поименованию…
— Назначению.
Зауэр наклонил голову и нахмурился. Он не любил, когда его поправляли.
— Да, пусть будет назначению. Оставим подвиги воинам. Это их привилегия. А люди искусства пусть получают то, что им положено от бога — гонорары и аплодисменты, если на то будет воля свыше и желание публики. Итак, вы согласны сделать работу, о которой мы говорили? Учтите, я делаю свой заказ в момент, когда в стране есть большой беспорядок. Почему в январе в Петербурге люди ходили к царю с иконами? Почему в них стреляли? Почему по морю плавают корабли, которые не подчиняются правительству?
— Если вы имеете в виду «Потемкин», то на нем было восстание.
— Я сам знаю, что восстание! — рассердился вдруг Зауэр. — Я все сам знаю и понимаю. Я спрашиваю, почему этот корабль не смогли утопить?
— Не сумели.
— Хорошо, пусть не сумели! Но зачем теперь переименовали в «Святого Пантелеймона» и снова пустили плавать? Такой корабль надо разрезать на куски, а их зарыть в разных местах, подальше от этого неспокойного. Черного моря. В какой-нибудь пустыне или в горах. Вы со мной не есть солидарны?
— У меня по этому поводу иное мнение.
— По этому поводу не может быть иного мнения, — сказал Зауэр. — Если оно есть, то оно неправильное. Даже у нас, в Ялте, неспокойно. Ходят разные люди с флагами и поют песни, делают митинги…
— Что же, теперь, когда обнародован манифест о даровании свобод, ходить с флагами и петь песни не возбраняется.
— Манифест! — всплеснул руками Зауэр. — Разве царь этого хотел? Его вынудили. Многие мои коллеги уже переводят деньги в швейцарские банки. Один я рискую в эти дни расширять дело. Может быть, это есть великий риск, но это одновременно есть и глубокая вера в благоразумие русского народа… Пусть народ немножко поволнуется, но потом пусть обязательно успокоится… Такой мой искренний совет народу. Об этом мы с вами еще поговорим. А пока — я приготовил текст соглашения. Вот конверт с задатком. Два месяца — достаточный срок?
Оказалось, что ко всем прочим добродетелям Зауэр был еще и невероятно предусмотрителен.
— Добрый вечер! — услышал Владимир, выходя из двери пансионата. — Я ждала вас. Успешен ли визит?
В свете стоявшего неподалеку фонаря он увидел Надежду. Подчеркивающий талию жакет фигаро, белая кружевная шамизетка[2], широкополая шляпа из черной плетеной соломки, в левой руке — длинный зонт, служивший одновременно тростью. У Надежды был отличный портной, в душе настоящий художник. Он не просто шил, а творил модель красиво и эффектно одетого человека.
— Вы мне не ответили. Договорились ли с Федором Дмитриевичем?
— Как будто.
— Не вижу на вашем лице радости. Ведь это первый крупный заказ?
— Да, но несколько странный. Как я понял, тут не обошлось без вашей протекции.
Надежда промолчала. Они шли по направлению к набережной.
В летнем театре городского сада играл оркестр. Усталый женский голос пел романс на слова известного поэта Евгения Львова:
Под покровом южной ночи
Чутко дремлет пышный сад,
Звезд мерцающие очи
В море Черное глядят…
Впрочем, тут же группа гимназистов старших классов, которые в последнее время расшалились и, игнорируя инспекторов, разгуливали по набережной и после девяти вечера, грянула «Марсельезу». Но видно, слов толком никто не знал, а потому попытка заглушить певицу не удалась.
Лавр, магнолии, гранаты,
Кипарисы, ряд мимоз —
Темной негою объяты,
Сладок запах тубероз.
— Может быть, вы разрешите мне опереться о вашу руку?
— Конечно. Должен был сам предложить. Извините. Задумался.