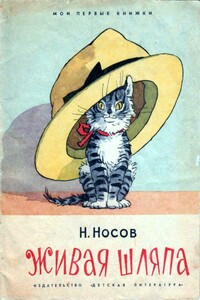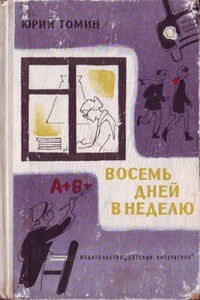А тут он — вот он, а больше никого и не видать…
Но вошла, делать нечего, надо здороваться. Поклонившись, по уже сложившемуся между ними обычаю, как старшему, сказала распевно:
— Здравствуйте вам. Мать-то дома ли?
— Нету, — ответил Костя, всё так же не двигаясь с места и остолбенело глядя на неё. — А ты чего пришла?
— Мамка прислала. Твою матерю велела спросить: шаль обделывать бахмарой или зубчиками? Шерсть давала нам твоя мама, шаль связать. — Груня шагнула в сени, ближе к Косте. Отпущенная ею дверь отошла на петлях, светлая полоса упала Косте на лицо. И тут Груня откачнулась назад в испуге: — Чего это с тобой, где тебя так-то?
— Чего? Ничего… — недоумевал Костя.
— Да как же. Ведь ты весь как чугунок чёрный! Тю, да это же… А я-то!.. Ох, не могу! — Звонкие стеклянные горошины смеха раскатились по сеням. Смеялись Грунины округло-продолговатые глаза, сделавшиеся совсем узкими, открыто смеялось лицо, вся Грунина фигурка раскачивалась в смехе, даже старый платок смешно вздрагивал кончиками, завязанными под узким подбородком.
Костя нахмурился, вскочил. И самому не понять было — рассердиться ли ему или засмеяться вместе с Груней.
А та, смеясь, схватила его за руку.
— Где у вас кадочка с водой? Гляди-кося вот.
Она толкнула дверь. В сени хлынул поток закатного света. Сдвинув деревянное полукружье крышки, ребята наклонились над кадкой с водой, и тёмно-зеркальная поверхность её отразила два лица: озорно смеющееся девчоночье с торчащим над головой углом платка и мальчишечье, всё в чёрных пятнах и угольных потёках, с растрёпанными волосами. Встревоженная испачканная физиономия выглядела так смешно, что Костя не выдержал, тоже расхохотался.
Так они стояли, держась за руки у древнейшего в мире зеркала. Вдруг Груня смутилась и отпустила Костину руку.
Костя толкнул кадку ногой, вода заколыхалась, ломая отображение.
Веселье сразу кончилось. Однако прошло и стеснение, сковывавшее Костю в первые минуты. На тихое Грунино «пойду, раз нет тётки Агаши», Костя просто ответил:
— Погоди, она вернётся скоро. Ты побудь, я счас.
Он метнулся на кухню, плеснул из рукомойника себе в лицо и наскоро стёр полотенцем поползшие с него чёрные потёки, пальцами разгрёб и пригладил мокрые волосы. Когда вернулся, на ступеньках крыльца сидела Груня и, обхватив колени, мирно говорила что-то Репью. Рыжий, с белыми подпалинами Репей дружелюбно поглядывал на Груню и помахивал лихо завёрнутым кверху хвостом, выражая ей своё собачье одобрение.
Костя присел рядом с Груней.
— Ты пошто, Грунь, за церковь никогда играть не приходишь? — спросил он, когда немного освоился.
Груня ответила не сразу.
За церковью, в самом центре села, была большая поляна. Дорога, проходящая серединой села, огибала её. Дома и ограды, как бы не решаясь приближаться слишком близко к церкви, оставались по ту сторону дороги. Поляна постепенно превратилась в деревенскую площадь. На ней собирались новобранцы перед отправкой в солдаты, здесь в особо важных случаях созывались сходки. Жарким летом она дожелта выгорала на солнце, была, пыльной и безлюдной.
Сейчас, в самом начале весны, здесь, как завечереет, собирались ребята со всего Поречного. Затевались игры в лапту, в догонялки, в кости. Подсыхающая земля упруго пружинила под босыми пятками, не прилипая, как хорошо вымешанное тесто. Далеко вокруг раздавались весёлые крики, смех, визг. Это девчонки пищали и визжали, как на всём белом свете пищат девчонки. Только Груня никогда не бывала на поляне за церковью. Она не только потому не бывала там, что некогда ей. На поляну за церковь приходила и Лиза Масленникова, другие из богатых домов.
— Разве мне с ними равняться? Понравится ли им-то со мной играть? — объяснила она Косте. — Дразнить ещё как-нибудь начнут, прицепятся покоры всякие искать…
Костя слушал, всё более хмурясь, и сердито прервал:
— Мы, однако, поглядим, кто тебя дразнить станет. Небось живо отучу! А ежели без меня тебя кто обидит, ты так и скажи: «Костя, мол, Байков узнает, худо, мол, тебе будет». Так и скажи, не стесняйся. Ладно? И приходи на поляну, слышь?
Груня не отвечала.