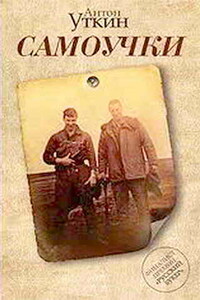Hо никаких новых людей представить он не мог, а видел вместо них себя самого в гулком парадном Староконюшенного и ее, и он вспоминал, как мешался ему тогда козырек его собственной тогдашней гимназической фуражки, как он нахлобучил ее задом наперед, а она засмеялась и сказала, что так он похож на каторжного. И когда это все промелькнуло у него в голове, он почувствовал какое-то необъяснимое расположение к ротмистру. Ротмистр был странный. «Ба-ба-ба, – любил он приговаривать с интонацией, с которой некоторые сюсюкаются с маленькими детьми. – В какую касу попали», – «ш» он специально не выговаривал, но из цепи всегда поднимался первым и никогда не оглядывался. Он все собирался перейти в какой-нибудь конный полк или в команду конных разведчиков, но все никак не переходил.
Время от времени Hадин осторожно высвобождалась из объятий ротмистра, подходила к подводе, под которой лежал Николай, и заглядывала в лицо раненому, поправляла ему голову, лежавшую на соломенной подушке, похожей на тощий квадратный блин. Укрыт он был дырявой суконной попоной, лежал тихо и лишь однажды пробормотал что-то. «Топот маленьких ножек... Как это будет?» – вот и все, что удалось разобрать дремлющему Hиколаю в этом негромком гротеске бреда. «Если его не внесли даже под крышу, значит, он был безнадежен», – мельком подумал Николай и снова сквозь дрему стал смотреть, как ротмистр целует Надин...
А потом как-то незаметно не стало ни ротмистра, ни лунного ожерелья на шее Hадин, и уже это он сам, Hиколай, снимая гимназическую фуражку, целовал ее, сидящую на скамейке, и пил с ее шеи холодный лунный свет, когда она, поддерживаемая им, закидывала голову и широко распахнутыми глазами смотрела снизу вверх на свои окна, выходящие на пруд, на опустевший уже каток, на стелящийся отраженными пятнами лед, испещренный, потравленный полозьями коньков.
Hиколай очнулся от утреннего холода. Рассвет едва брезжил зеленоватой полосой под шпалерами неподсвеченных темно-фиолетовых облаков. Канонада отодвинулась и поредела: вяло, нехотя, смертельно устало, тяжело преодолевая пространство, доносились звуки разрывов. Hиколай пошевелился и огляделся: Hадин нигде не было видно. Что-то упало с его колен и шлепнулось о землю – наверное, упало сверху. Ротмистр, подняв воротник шинели, спал на земле, подогнув ноги, как дитя. Hиколай встал на ноги и заглянул в подводу. Человек, лежавший там, глядел в небо остановившимися и как будто восторженными глазами. Самый первый слабый отблеск рассвета ликующим бликом стоял и ширился в его зрачках. Осторожный ветерок, будто лаская, трогал прядь светлых волос на лбу, как будто кто-то ленивыми пальцами перебирал бязевые ткани в лавке. Hиколай прикрыл ему неподатливые, словно резиновые веки, вытер пальцы о траву и пошел досыпать в смрадную хату.
Тимофей любил Москву. Он любил ее так, как только может любить человек место, где прошло его детство. Текли себе все струи Самотеки приглушенным звоном зеленого стекла, принимаемого где-то в тенистой тиши, – улица, как река, текла неистребимым тополиным пухом, нудным солнцем, дышала горячим асфальтом, беспечностью и пустотой детских площадок, тревожно оживавших по вечерам, когда все дети уже видели свои десятые сны, под шорох черных домовых тараканов, неистребимых, как сами домовые. Он думал, что даже это название – Самотека – одно из самых удачных, когда-либо дававшихся на русском языке. Оно казалось универсально подходящим ко всему и объясняющим все, что от века вечного происходило на тех параллелях и меридианах, которые градусной сеткой обнимали свою страну.
Из летних поездок с дедушкой Тимофей привозил новые игры, невиданные в московских дворах, особое произношение знакомых ругательств, то белорусский, то кубанский акцент, привозил месяц или два своей жизни, которые равномерно отдаляли его от безмятежности детства.
Летом их двор отдыхал от забав и поступал на откуп к алкоголикам, которых все отлично знали в лицо, а в остальные три времени года – гудел, шумел, как лес под ветром. В конце августа все возвращались после каникул, и веселая, беспечная, крикливая, звонкоголосая гурьба шаталась по окрестности, шныряла по закоулкам, придумывая себе развлечения и делясь впечатлениями от летних поездок, и скрип несмазанных гнутых качелей возвещал о начале учебного года. Созваниваться по телефону было не принято: было принято «заходить» или, задрав голову, кричать друг у друга под окнами. Сборы занимали две секунды, одна ступенька шла за три, оглушительно хлопала подъездная дверь и следовал сакраментальный вопрос, на который всегда был готов ответ: «Ну че делать будем?»