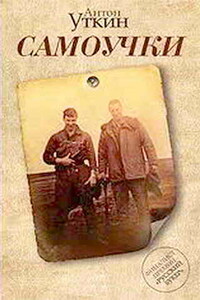* * *
Илья уперся взглядом в вывеску «Любовной битвы» совершенно случайно. Два часа они с Тимофеем провели в мэрии, где Тимофей познакомил его с чиновником, от которого зависело, дадут ли ему выкупить в собственность несколько десятков рекламных щитов или нет. Увидав «Любовную битву», Илья толкнул локтем Тимофея, и тот даже присвистнул от восхищения.
– Зайдем? – одновременно спросили они друг друга и после незначительных препирательств со старичком-охранником в какой-то несуразной униформе быстро взлетели на второй этаж.
Марианна стояла у окна и по своему обыкновению смотрела на купола Спаса на Песках. Сегодня с самого утра на нее нежданно-негаданно нахлынули воспоминания, и она вспоминала, как лишилась своей театральной работы: в два счета и к тому же очень просто. Работала она вторым режиссером у одного напыщенного гусика, мнящего, как водится, себя гением и первооткрывателем. Последним он и в самом деле был – первооткрывателем молоденьких актрис, терявших завитые головенки при соприкосновении с большим искусством на кожаном итальянском диване, образовавшемся на средства от сдачи внаем малой сцены и нескольких костюмерных ночному клубу с сомнительной репутацией. Кроме того, искренне верил, что на страже его удачи вечно дежурит Наполеон: купленный в Париже за двадцать пять франков бюстик величиной с пачку махорки моршанской табачной фабрики. Как-то она слышала, как он пищал в трубку одной из своих: «Радость моя, я потерял своего Наполеосика. Просто из рук все валится. Рыбка моя, пойди во дворец Инвалидов, там должны быть... Нет, непременно белого... Нет, в треуголке. Без треуголки не бери». «Бедняга Буонапарте, – подумала тогда Марианна, – стоило двадцать лет не вылезать из седла, часами просиживать на барабане, чтобы кончить талисманом у этакого безобразия с изнеженными пальцами портье».
Его голос до сих пор звучал у нее в ушах, как будто это было вчера: «Так, радость моя, ты лилипутов мне достала? Это, по-твоему, лилипуты? Кто же я тогда-то? Нет разницы? Ты уж запомни, будь добра, голова то, чай, не опухнет: карлики это карлики, а лилипуты это лилипуты. Так уж мир устроен». Лилипуты, карлики, гномы, лесовики, пигмеи, нибелунги, гвельфы, гибеллины, Саломея под лестницей, пьяные осветители, задолжавший повсюду Тигеллин, возьми да скажи: «Может, вам сразу эльфов? Эти хоть экологически чистые. Понимаю – не смешно, да ведь и мне не до смеха». А он посмотрел эдак на ее грудь и говорит: «Пиши по собственному. Ты у меня уже в печенках сидишь».
Вышла на Тверской и долго брела бульварами, глядя, как дождь летел в фонарях. А мимо рядами шагали творцы Галатей, Синие бороды в поисках идеала... В этом месте воспоминания ее оборвались, потому что в дверь постучали. Марианна оглянулась на дверь и отошла от окна.
– Вы что, любите одну женщину? Или друг друга? – увидев друзей, воскликнула Марианна.
– Друг друга мы любим, – подтвердил Тимофей, бесцеремонно занимая вертящееся кресло напротив хозяйского места Марианны. – Теряешь ты остроумие на этой работе.
Марианна смущенно пожала плечами. Только что Марианна два часа занималась с пожилым господином, любителем лошадей, который запутался между женой и молоденькой любовницей. Дабы обрести душевное равновесие, он совершил паломничество в предгорья Гималаев, но и там, в дальнем ашраме, проклятые вопросы новой русской жизни не получили окончательного разрешения.
«И знаете, – спросил пожилой господин, – что я понял, когда вернулся? По ком я по-настоящему соскучился? – Не дав Марианне никак отреагировать на свой вопрос, имеющий быть риторическим, пожилой господин торжественно сказал: – По лошадям!»
И своим победоносным взглядом поддерживал изумление, проступившее на лице Марианны, с горделивым сознанием того, что только что устремил психоанализ к неведомым ему вершинам познания. Марианна не была вхожа в мир животных: когда-то давно у нее была собачка – карликовый тибетский терьер, и этим, пожалуй, ограничивалось знакомство ее с меньшими братьями человечества. Но коль скоро пожилой господин сам разрешил свои сомнения, ей ничего не оставалось, как утвердить его приговор многозначительным молчанием, долженствующим изображать отнюдь не праздное раздумье.