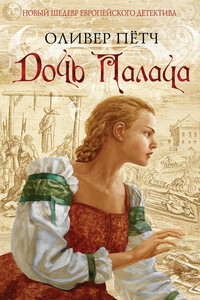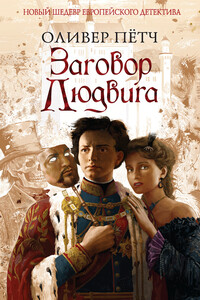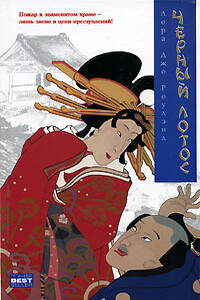Трифельс, 21 марта 1524 года
от Рождества Христова, ранним вечером
– Да как посмел этот ублюдок трогать мою дочь?! Я выпотрошить его велю! Выпотрошить и колесовать!
Филипп Свирепый фон Эрфенштайн вскочил со скамьи и принялся расхаживать перед камином. Лицо его раскраснелось; черная, подбитая лисьим мехом мантия развевалась за спиной. Две охотничьи собаки устало подняли на него глаза и снова улеглись на теплую кабанью шкуру возле огня. Они не в первый раз видели хозяина в таком состоянии и знали, что приступы бешенства, как летняя гроза, быстро проходили.
– Этот Вертинген смолоду был ублюдком! – продолжал пыхтеть Эрфенштайн. – На турнирах позорил рыцарство и в поединках запрещенными приемами не брезговал. Даже представить себе не могу, что бы он с тобой сделал!..
Внушительного роста рыцарь покачал головой, и Агнес заметила в глазах отца неподдельный испуг. Седина тронула его некогда черные волосы – горести и заботы давали о себе знать. В далекие времена он потерял в битве левый глаз и с тех пор носил повязку на месте уродливой дыры. В сочетании со шрамом на левой щеке это придавало ему весьма устрашающий вид. После безвременной кончины жены Филипп фон Эрфенштайн опекал свое единственное дитя всем наседкам на зависть. К счастью, в крепости было достаточно укромных мест, чтобы спрятаться от ворчливого отца. Чем старше и женственнее становилась Агнес, тем острее в нем проявлялись заступнические инстинкты. Подобно многим мужчинам, ставших отцами в преклонном возрасте, он оберегал свою дочь с особенным рвением.
– Ты так и не ответила на мой вопрос. Что тебе понадобилось в этом лесу? – Богатырского сложения рыцарь повернулся к дочери и погрозил пальцем: – Как будто не знаешь, что там за сброд ошивается!
Агнес уставилась в пол и беспокойно ерзала на стуле. Вот уж полчаса отец отчитывал ее в парадном зале. За окнами уже сгущались сумерки, и по просторному залу пролегли длинные тени. Высокие потолки поддерживали ряды обветшалых колонн, вдоль стен висели рваные гобелены и выцветшие ковры. О содержании роскошных когда-то узоров оставалось только догадываться.
Филипп фон Эрфенштайн целый день провел в деревне, пытаясь хоть что-то собрать с крестьян. Настроение у него было соответствующим, а известие о покушении на любимую дочь стало последней каплей. Агнес решила ничего не говорить о схватке и убитом, чтобы лишний раз не тревожить отца.
– Мне же надо было разыскать Парцифаля! – выпалила она. – Ты же знаешь, как он мне дорог! Мне еще повезло, что Матис оказался поблизости. Он… он отвлек разбойников, и нам удалось сбежать.
– Отвлек, говоришь? – Отец недоверчиво уставился на нее единственным глазом. – И как же? Неужто своим вонючим порохом? Я, пока у крестьян был, слышал, как что-то громыхнуло два раза. Уж не твой ли Матис тут замешан? – Он снова погрозил пальцем и возвысил голос: – Я ему сто раз говорил, чтобы он прекратил заниматься этой чертовщиной! Пусть мечи кует и не тратит время на недостойный рыцаря хлам.
– Он… он бросался в разбойников камнями, а потом убежал.
Агнес изо всех сил старалась не смотреть отцу в глаза. В надежде, что наместник этим удовлетворится, она неуверенно добавила:
– Мы и сами слышали, как громыхнуло. Видимо, в какой-то соседней крепости стреляли.
Поколебавшись немного, Эрфенштайн все же поверил отговоркам дочери.
– Ладно, – проворчал он. – При случае я поблагодарю Матиса. Но это вовсе не значит, что я позволю ему и дальше марать руки в порохе.
Отец ворчал себе дальше, а Агнес мысленно возвращалась то к мертвому Пьюку, то к соколу. К таксе она относилась как к другу, но Парцифаль был для нее дороже всего на свете. Долгие месяцы ушли на то, чтобы прикормить и выдрессировать робкого поначалу сокола, натаскать с помощью приманки на ворон и других птиц. При мысли, что маленький охотник улетел навсегда, у Агнес комок вставал в горле.