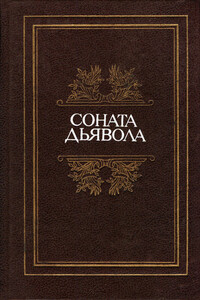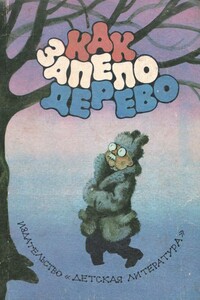— Скажите, а вы случайно не профессор Урусборг из Стокгольма? — спросил я. — В своем последнем письме…
— Что? Профессор? Нет тут никакого профессора, есть только дядюшка Антонен. Чего ломать комедию, раз уж все пошло кувырком.
Удивленно вздернув брови, я некоторое время помолчал словно бы в нерешительности. Наконец, показывая всем своим видом, что только присутствие очаровательной дамы помешало мне поставить невежу на место, я заговорил, обращаясь на сей раз к Рене: — Еще раз прошу прощения. Я натуралист и договорился — правда, не совсем определенно — встретиться здесь с одним своим шведским коллегой, которого знаю только по переписке. Теперь вам понятна моя оплошность. Мне, право, неловко.
Рене оставалось только любезно возразить на мои извинения.
— Ваша профессия, должно быть, удивительно интересна, — добавила она тем светским тоном, каким разговаривала с гостями, мне он всегда был неприятен. — Вы специализируетесь в области палеонтологии?
Она явно гордилась тем, что употребила такой мудреный термин. Я благодарно улыбнулся ей и заговорил более непринужденно, как будто ее эрудиция выручила меня, позволив перевести разговор на близкую мне тему.
— Нет, палеонтология занимает меня лишь в определенном смысле: я работаю над трактатом об эволюции позвоночных к состоянию всеядности. На первый взгляд этот тезис может показаться спорным, но я располагаю вескими аргументами. Одним словом, я пришел сюда, чтобы проверить кое-какие догадки на практике, и, должен признаться, не вполне удовлетворен. Но вы, похоже, и сами прекрасно разбираетесь в этих вопросах, мадам?
— Что вы… Просто я очень этим интересуюсь, — ответила Рене, никогда не умевшая отличить пчелу от шмеля.
Она зарделась от удовольствия, польщенная тем, что я так высоко оценил ее познания. Не зная, радоваться этому или нет, я почувствовал, что начинаю вызывать у нее симпатию. Дядюшка Антонен, который никак не мог простить мне, что я спутал ему все карты, принялся бурчать:
— Натуралист, понимаешь ли. На что это похоже. Зря не послушал меня, старика. Тоже мне натуралист.
— Дядя, — обратилась к нему Рене, — ты не присмотришь за детьми, чтобы они далеко не уходили?
Когда дядя, продолжая ворчать, отошел, Рене извинилась передо мной за его фамильярность и нелепые замечания. Она дала понять, что у него бывают странности, но попыталась как-то объяснить их, не задевая чести семьи. Не скажешь же, в самом деле, что твой родной дядя не совсем в своем уме. Видя ее затруднение, я поспешил прийти ей на помощь:
— Ваш дядя показался мне восхитительным оригиналом.
Я сказал именно то, что следовало. Рене расцвела и с облегчением принялась потчевать меня разными историями, доказывавшими дядину оригинальность. Все они в той или иной степени были выдуманы, из чего я заключил, что Рене рисуется передо мной, поскольку обычно она не склонна ни к преувеличениям, ни тем более ко лжи. Примечательно, что о дядиной машине она не обмолвилась ни словом.
— Вы так чудесно рассказываете, что любой невольно проникнется симпатией к вашему дяде. Но должен признаться, сейчас мне любопытен не столько этот достойнейший человек, сколько вы сами. Видите ли, я твердо убежден, что где-то уже встречался с вами. Разрешите спросить: вы не были позавчера на коктейле у графини де Вальдуа?
С явным сожалением Рене ответила, что нет, не была, и по ее глазам я понял, что приключение захватило ее. Она далека от снобизма и не слишком романтична, но ценит респектабельность, солидные рекомендации. Завести любовника — значит утратить спокойствие и терзаться угрызениями совести, так что если уж решаться на это, то он по крайней мере должен быть из приличного общества.
— Я упомянул об этом коктейле, потому что это мое первое появление в свете после возвращения в Париж. Только что я вернулся из путешествия по Афганистану.
Это путешествие, как я понял, еще более упрочило мое положение. Я принялся довольно рассеянно рассказывать об Афганистане, и вдруг меня словно бы осенило. Я вспомнил: мы встречались в лифте. Вот оно что: мы, оказывается, соседи. От такого непредвиденного совпадения моя жена, судя по всему, несколько сконфузилась. Я тоже изобразил смущение, словно допустил бестактность, и несколько секунд протекли в молчании. Потом я возобновил разговор о позвоночных, рассказывая о мегатерии и прочих видах, вымерших от непонимания того, что будущее принадлежит всеядным. У меня создалось впечатление, что Рене больше смотрит на меня, нежели слушает. Ее серые глаза, обычно холодные и ясные, сейчас засверкали теплым и влажным блеском, какого я до сих пор никогда в них не замечал. В этом взгляде, задумчивом и пылком, читалась тревога тридцатичетырехлетней женщины, не уверенной, нравится ли она молодому красавчику. А ведь Рене была по-прежнему привлекательна. В двадцать лет ее тонкое лицо было слегка приторным, с годами же оно похорошело. Контуры фигуры стали более четкими, известные округлости, ранее чуть заметные, достигли очаровательной зрелости. Чувствовалось, что ее внешний облик полностью гармонирует с ее внутренней сущностью. Гармонию дополнял и ее туалет, который отличался тщательно продуманной элегантностью, в нем не было ничего случайного, прихотливого. Вскоре к нам присоединился дядюшка Антонен с детьми. Казалось, он смирился с крушением своего плана и теперь с чрезмерным усердием толкал нас друг к другу.