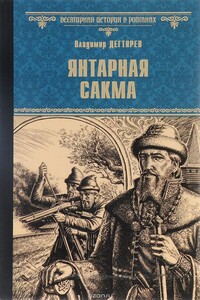— Я ему уже сама нашла камердинера, — быстро ответила Екатерина.
— Ну и слава Богу!
Екатерина повернулась к потайному кабинетному комоду, достала оттуда толстый пакет, красиво перевязанный алым бантом... Рука её с пакетом было протянулась к Шешковскому, да вдруг остановилась. И глаза у императрицы остановились, застыли. И голос застыл:
— А вот скажи мне, Степан Иванович... скажи истинную правду, как перед могилой...
Шешковский скрюченной от ревматизма рукой тут же перекрестился, попадая мимо лба.
— ...скажи мне, могу ли я надеяться, что мои служивые люди, то бишь военные люди, будут исправно и по присяге служить моему внуку, любимому моему Сашеньке...
— Изволите так называть цесаревича Александра Павловича, матушка императрица?
— Его, его... Будут ли ему служить? Не готовится ли промеж военных людей какого манифеста, или чего похуже — некоего неповиновения, на тот случай, если мой внук... мимо нынешнего наследника Павла Петровича вдруг окажется на троне империи?
У Степана Ивановича Шешковского так сверлило в пояснице, что в глазах бегали тёмные круги, а сердце выстукивало через раз. Ему бы упасть, полежать на прохладном паркете государыни. А он, сцепив зубы, еле помусолил совершенно сухой язык и проскрипел:
— И такое есть матушка. Многие прошли через мои подвалы, и военные люди, бывает, висели на дыбе...
— Ну?
— А то могу сказать... от края могилы, что полного рая на земле не бывает. А всё как-то так, всё оно бывает... пополам с адом. Такое случается и с военным людом... Когда я... давно уже было... вытряхивал душу из некоего поручика Мировича, ты, поди, забыла эту фамилию, матушка императрица... Он хотел Ивана Шестого освободить из Шлиссельбургского каземата...
— Это пропусти, говори мне свой фактус! — осипшим голосом прошипела императрица Екатерина и сверх своей воли, а видать по воле Божьей, многократно перекрестилась.
— А фактус такой, что орал он, ваше величество, вися над угольями, на дыбе, орал он мне в лицо такие словеса: «Честь дороже присяги!»
— И что из этого следует?
— А то следует, что они, военные преступники, свою личную честь и душу ставят превыше служения тебе и государству нашему. Вот так!
Императрица Екатерина Алексеевна негаданно охнула и присела на софу возле комода:
— Продолжай, пожалуйста, продолжай, Степан Иванович...
— И то ещё следует, что в армейской среде таких Мировичей не один. Обиженных много.
— Сто? Тысяча? Сколько военных людей мною обижены?
— Да уж поболее тысячи. И не тобой они вовсе обижены, а всем состоянием общества. Одному погоны бы надо пошире, а другому бы землю у соседа сделать поуже, в свою пользу. А третий пропил имение или в карты спустил, так тот вообще готов орать, как Емелька Пугачев: «Царей — на кол!»
Екатерина сглотнула, хотела высказать некий вопрос, но удержалась.
Не удержался сам действительный тайный советник Степан Иванович Шешковский:
— Они, те злыдни — офицеры, уже и тайное общество организовали.
Даже два общества. На заморские деньги организовали...
У Екатерины затрясся подбородок и мелко-мелко затряслись руки:
— Где... организовали? В столице?
— Когда я уйду... насовсем уйду, ваше императорское величество, вам передадут пакет, лично мной засургученный и моей печатью утверждённый. Там все имена, фамилии и прочие данные про тех офицерских злыдней...
Услышав это, Екатерина Алексеевна вдруг успокоилась. Что ни говорят про неё, что не болтают в анекдотах по всей империи, а верных людей она умела подбирать. А всяких злыдней — умела наказывать. Чужими руками, конечно, наказывать, но с явным и точным приказом, который у неё в таких случаях всегда читался в глазах. Хотя губы улыбались.
Поэтому императрица спокойно и уверенно протянула Степану Ивановичу Шешковскому большой и толстый пакет:
— Ладно... Хорошо поговорили. Вот здесь тебе — пятьсот тысяч рублей ассигнациями. И к ним проси, чего хочешь.
— Одного прошу, матушка, родню мою не дай в обиду. Ведь когда насовсем уйду, на них такие громы станут бабахать... За мою успешную, но людями нелюбимую службу.
— Конечно, конечно, Степан Иванович, только зря вы так... пессимистично. Вы ещё и меня переживёте!