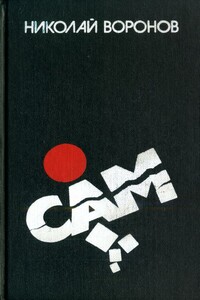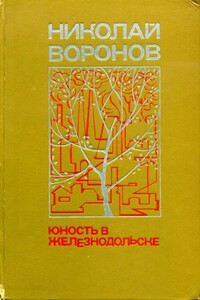За поворотом река ширилась, разглаживалась. Над отмелью светлел качаемый течением белокрыльник. На той стороне, в бочажине, студенело отражение месяца.
Андрюша метнул в бочажину камень. Месяц раскололся, а когда брызги осыпались, он как бы начал склеиваться из растягивающихся кусочков и вскоре уже тонко гнулся на потревоженной глади. Все это было красиво, но без Натки не имело значения.
Мешало восприятию ночной красоты то, что он не мог забыть о пригасшем светлячке. Поначалу он не отдавал себе отчета в том, почему этим обеспокоен, и лишь за полночь, у костра, испуганно догадался, что сам он как пригасший светлячок.
Как и многие его сверстники, Андрюша увлекался книгами о замечательных людях: их детство, зачастую обычное, невидное, наводило на мысль, что и он, может быть, станет выдающимся человеком. Андрюша не представлял себе, каким образом произойдет это, и все-таки надеялся. Тайно, мучительно, робко, неистребимо. Теперь же он обреченно решил, что ничего больше не достигнет в жизни.
Потерянно закрыл глаза. Почудилось, что увидел внутри себя луч, прозрачно переливающийся, расходящийся из центра. Вдруг луч сложился, чуть ли не весь втянулся куда-то в темноту и тупо торчал, испуская реденькое белесое сияние. Андрюша весь напрягся, стараясь выдавить луч из темноты, в которую тот втянулся. От напряжения Андрюше стало жарко, а луч и на миллиметр не выдвинулся.
Андрюша уныло опустил голову, но глядеть в себя не перестал. Сияние над лучом почему-то потеряло жидко-золотой тон, стало походить цветом на Люськино пальто, которым она хвасталась перед знакомыми женщинами:
— У меня пальто цвета электрик.
Из-за сияния появился Оврагов, склонил распаренно-красное лицо над песком и хотел ухватить луч своими черствыми пальцами. Луч вильнул, как елец, и ускользнул. Оврагов рассмеялся и пошел, грохая сапогами.
«Зачем он уходит? — подумал Андрюша. — Неужели трудно вытащить луч? Ведь я не смогу стать великим человеком. Догнать, заклинать, упросить».
Андрюша хотел встать. Не удалось. Правда, ноги немножко шевельнулись, а голова — нет: как застыла.
Оврагов был еле виден. Он шагал по холмистому желтому облаку.
«Догоню», — упрямо подумал Андрюша и мучительными усилиями вскинул голову. С волос соскользнула фуражка, хлопнула о землю. Из костра, звонко треснув, выпрыгнул сучок, упал в фуражку. Очнувшийся Андрюша выкинул его оттуда и принялся ломать валежник.
Натка спала на спине. Одеяло, подоткнутое под затылок и ноги, было туго натянуто над нею. Давеча, вернувшись к костру, он лишь мельком взглянул на нее, скорчившуюся на кошме.
Он заскучал по Натке. Разбудить? Видеть ее глаза, волосы, шею, слышать ее голос с часто меняющимися откровенными интонациями: сострадательными, подтрунивающими, игривыми, недобрыми, прощающими.
Будить Натку раздумал. Преодолевая в себе неловкость, смотрел на нее. Даже на такую безмолвную, недвижную, полностью скрытую старенькой байкой, он готов смотреть бесконечно. Она рядом. Не за ягодами приехала. К нему. Да, к нему. Он жжет для нее костер. Он сторожит ее. Это счастье. Выше ничего нет и не будет.
С берега послышался скачущий треск: то разматывалась леска, вырываемая из расщелин в бамбуковой рогатуле.
Андрюша осторожно выдернул из песка удилище и отмахнул вбок. С рогатули соскользнули остатки лесы, стало туго. Крепко держа удилище, он отступал по берегу. Рыба, попавшаяся на крючок, безвольно волоклась по воде.
Попался налим. Холодный. Скользко вывиливал из ладоней. Лениво загибал мягкий хвост.
Он посадил налима на кукан, сполоснул руки, вытер о подол рубахи. Его радовала удача, но эту радость вытесняло тревожное неясное желание.