Мертвого Паровицына обнаружили на колошниковой площадке домны. При нем была записка, своей краткостью подобная его устным суждениям:
«Оборудование работает на износ. Больше бороться не в силах. Быть может, кому-нибудь станет совестно».
У Манина и Паровицына была, по-заводскому простонародному выражению, дружба не разлей водой. Они испытывали друг в друге духовную необходимость, вероятно по закону противоположности натур. Для счастья Манину было достаточно того, что ему сподобилось родиться и что он живет на белом свете. Обсуждая с Паровицыным мучительные вопросы, местные, металлургические, всепланетные, он искал на них сложные ответы и всегда обнадеживал и его и себя светлыми выводами: все, что нас и человечество печалит и корежит, стремится убывать, а все то, что прекрасно, — окрыляется. За это свойство Паровицын называл Манина разносчиком бодрячества. Он был убежден, что подобное восприятие губительных явлений производства усыпляет в человеке преобразователя, примиряет с чувством согласия, оптимистического лукавства и такой скованности, точно твое туловище замуровано в бетон, — верти башкой, дыши, действуй остальными членами тела, но движения тебе нет, правда перемещение возможно: захотят — передвинут. Манин находил, что в мире стало больше хорошего, всегда было больше хорошего. В отличие от него, Паровицын считал, что в мире после возникновения человека всегда было больше плохого, а теперь стало еще плоше, что и подготовило условие для отрицания человечеством самого себя. Он выводил эту трагедию из существования людей и уверял Манина, что все на земле воспрянет, лишь только человечество самоуничтожится. Чем раньше это произойдет, тем спасительией для земли.
Когда то, о чем пекся Паровицын, удавалось и он удостаивался похвал директора завода Творогова, который, по его мнению, был на заводе преобразователем номер один, Паровицын неудержимо и открыто радовался и над ним за глаза потешались сослуживцы, а кое у кого из них его «телячьи восторги» вызывали презрение. Как ни странно, он делился радостью и со своими персональными недоброжелателями. Он подходил к кому-нибудь из недоброжелателей, весь светящийся, произносил громковещательным голосом:
— Меня отметил Творогов! У нас в отделе восхитительный народ! А в цехах?! А в стране?! Поразительней не бывало! Замечательно жить! Можно творчески работать! И стоит верить: человечество разумно и спасется!
Все без исключения — и товарищи Паровицына и недруги — были уверены, что он, педантичный практик, железный ум, прочность и чистоту которого выявляет нетерпение, как легирование никелем выявляет истинные достоинства стали, немножко свихивается от директорской похвалы. Домысел тут был вроде бы разумный, но на самом-то деле они заблуждались. Стремясь нести свои обязанности на совесть, он уставал от сопротивления и неверия, отсюда его наркотическая восторженность. Ведь если бы удача не являлась душераздирающей возможностью…
Паровицын покончил с собой, когда Манина положили в больницу.
Накануне операции к Манину пришли жена и сын. Ему должны были удалить желчный пузырь. Исход операций они ставили в полную зависимость от того, узнает он о смерти Паровицына или нет, поэтому им удалось вести себя так, будто все на воле ладно, а единственная их печаль он, и то лишь потому, что его будут резать, хотя операция, без сомнения, закончится благополучно. Они были довольны, что он н и ч е г о н е з а м е т и л, и, спускаясь по лестнице, с отрадой переглянулись, но через мгновение он окликнул их:
— Мать, сынок, погодите.
Манин и сам еще не сознавал, зачем побежал за ними. Он испытывал черное беспокойство, покамест они находились в палате, а едва вышли, его сердце так и рвалось им вослед, и он бросился вдогонку за ними. Манин не ожидал от себя этого страшного вопроса, само спросилось:
— Что, Паровицын умер?
— О-откуда ты взял? — попробовал возмутиться сын.
— Не слыхали, — с пугливой торопливостью сказала жена.
— Эх, вы… При мне бы он…
Жена засмеялась.
— Акстись!
— Странный ты, папа, — сказал сын.
— Куда ж ноги привели его умирать?


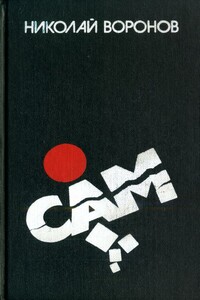
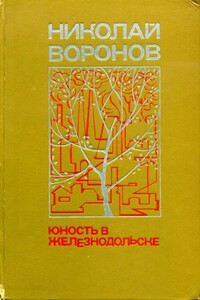


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
