Они молчали. У них было уклончивое выражение лиц. Они снова хотели возразить ему, но Манин уж поймал себя на том, что и это знает. Прежде чем пойти вверх по лестнице, промолвил:
— Не надо… На колошнике домны.
Больше они ни слова не промолвили. Свернув в коридор, Манин продолжал ощущать спиной их испуганную, недоумевающую немоту.
С этого дня и началась бессонница. Даже на операционном столе не спал — будто бы притворился.
Когда кто-нибудь из товарищей допытывался, правда ли, что он ни капли не спит, Манин отвечал, что у него иногда возникает охота прикорнуть; он встанет на коленки и приложится к постели, а на работе, значит, — к столу, но не засыпает: только мнится, что дремлет.
Наверно, теперь у Манина был такой момент, когда не спится, а блазнит, потому Иван собрался уйти из газовой будки, ничего не сказав мастеру о слишком длинной, намеренно длинной чугунной лётке.
Подле двери Ивана догнало вопросительное манинское «кто».
— Вычегжанинов, — промолвил Иван и робко, плавающим движением плоскодонных чунь, сшитых из транспортерной ленты, пошел к столу.
Манин не открыл глаз, не изменил позы.
— К выдаче подготовились?
— Загадка, Николай Семенович.
— Ну?
Иван рассказал.
— Загадка? Себялюбием припахивает.
— Чем?
— Себялюбием Алешки Филина.
— Алексея Фокича?
— Ты не придыхай. Мастер крепкий, да чрезмерно возвеличили. Вперед куда более крепких мастеров выставили. Ордена. Лауреатство. На героя бьет. К юбилею завода. Разнарядку на награды покуда не прислали. Кандидатуры, ясно, обсуждаются, кому что дать. У нашей бригады показатели лучшие в цеху. Надумал нас подсадить. Умеет подсаживать. По длинной лётке всегда не дольешь. Частенько сдает нам похолодавшую печку. Опять же, чтоб не добирали чугун. Покуда печка разогреется и чугуна поднакопит, здесь он заступит на смену и сполна выдает плавки. Ловкач Алешка Филин.
— Нельзя разве прищучить?
— Поди разоблачи. Отопрется, как черт от дьявола. Горновые не созна́ются. Велел помалкивать — попробуй ослушайся.
— Подследить.
— Стыдная штука.
— Сказать начальнику, он прикажет подследить.
— Совестно.
— Ничего не совестно. У него сознание должно быть. Он же на весь город знаменитость.
— Избаловался. Опять же избаловали. Все есть, лишь звездочки нет. Ее бы захапать. Больше одной-то не разнарядят. Ладно. Об этом никому: правда способна оборачиваться против правого, а виноватый торжествует. Иди. Да, комбайн в порядке?
— Должен…
— Если исправен — рассверли лёточный канал.
Комбайн был созданием Паровицына. Несмотря на то что этот агрегат — с виду аляповатый, громоздкий — облегчал труд горновых и делал его почти безопасным, они неохотно пользовались им, предпочитая работать вручную и рисковать.
Иван сказал Грачеву, что доложил мастеру, о чем следовало, и что собирается рассверливать лётку. Грачев хотел подать по монорельсу буровую машину, похожую на модель самолета, но Иван запротестовал: ни к чему кишки надрывать, комбайном рассверлит запросто. От неодобрения Грачев скорчил такую кислую рожу, будто раздавил зубами ломтик лимона.
Иван разбурил комбайном лётку, а едва подсушил ее хорошенько, то и пробил комбайном, чего Грачев совсем не одобрил: он открывал лётку только вручную, пикой.
Тек чугун голубоватый, цветом в молоко, пропущенное через сепаратор, чадил желто, ржаво — выгорали сера и железо, капли выпрыскивали багровые, хвостатые; взлетая, они выбрасывали искрящиеся паучьи ножки и дергались, словно бы что-то выхватывали из воздуха.
К полудню воздух над литейной площадкой перекатывался невидимым огнем. Жар от домны, жар от крыш, жар от литейной канавы, арбузно-розовой от схлынувшего чугуна, обжигал ноздри, сушил в гортани. Горновые бегали пить газировку. Она была жгуче-студеная, парила шипучими капельками-толкунцами, запирала дыхание, как спирт.
Иван любил это время, когда из домны бежит металл. Светлыми пластами липнут блики к опоясавшей печь клепаной «колбасе», внутри которой с каменным трением несется воздух. Гибкие отсветы поглаживают набалдашник электрической пушки, озаряя его шершавые овалы и смолянисто-темную в дуле глину. Из зева ковша, выложенного кирпичом, выкидываются с шуршанием и опадают, потрескивая, оранжеватые капли. Над красной коркой, нарастающей в этой огромной посудине поверх чугунной зыби, встают пики красного и зеленого пламени. Все это навеивает на Ивана умиротворение. Он завороженно смотрит на бегущий чугун, на шатание зноя, на волнение рыжевато-бурого дыма под фонарем крыши. В сердце занимается тихая нежность, хочется, чтобы не переставая лился в чаши чугун, чтобы не прекращалась качка цветных сполохов у горна, чтобы сквозь толщу сутеми маячили синие силуэты рабочих соседней домны.


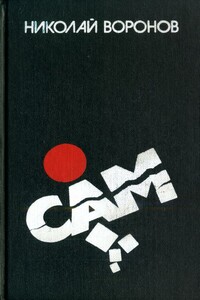
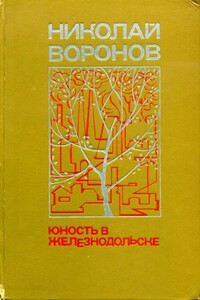


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
