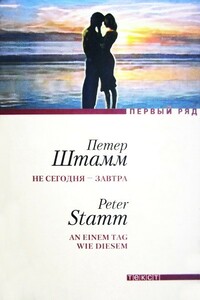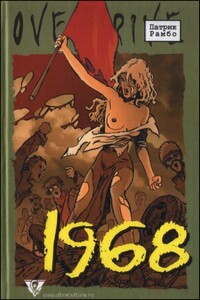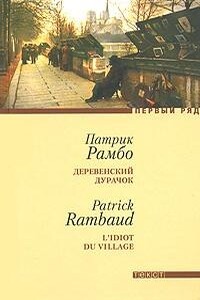Камбасерес расхохотался деланным смехом:
— Вы вправе ворчать на меня, генерал. Для меня это было чисто формальным вопросом…
— Однако вы подписали приказ о моей отставке!
— Подписал, да, мне представили дело так, что речь идет об офицере, который отказывается повиноваться… Это несправедливо, согласен, мы вам обязаны взятием Тулона, которое спасло Республику…
Тут Камбасерес, по своему обыкновению, ввернул лестное замечание:
— Вашим заслугам завидуют, генерал. Люди, которые не сделали ничего, не выносят тех, кто действует. Наберитесь терпения.
— Терпение мне несвойственно.
— У вас есть друзья, они вас поддержат.
В этот момент оркестр перестал играть, танцоры — танцевать, говоруны — говорить. В салон вошла мадам Тальен. Другие женщины более не существовали.
Терезия была наполовину испанкой; ее безупречное тело окутывал легчайший муслин, грудь была открыта, талия тонка, ягодицы округлы, черные курчавые волосы острижены коротко, «а-ля Тит», на плечах пурпурная кашемировая шаль; золотая змейка с изумрудной головой обвивала запястье. Она шла, покачивая бедрами так, чтобы полы ее наряда распахивались. Никогда еще Буонапарте не случалось видеть богиню так близко. При этом зрелище он утратил самообладание. Сейчас он выглядел еще более неуклюжим, неестественно напряженным, чем обычно, его голубые глаза увлажнились, созерцая ее. Терезия вышла из мира, знакомого только по книгам. Женщины, которых он знал, были либо дешевыми завлекательницами мужчин, либо простушками, лишенными манер: депутатские жены вроде мадам Рикор или блондиночки Фелисите Турро, девицы, годные для мимолетных интрижек, наподобие Эмилии Лоранси из Ниццы, его свояченицы Дезире Клари, притворно стыдливой Викторин де Шастене либо Сюзанны-работницы. Терезия же являла собой живое воплощение уроженок Кносса или древних критянок из великих античных храмов, таких, как Агиа Триада — стройных дев, с позлащенными солнцем грудями, значительных, словно мужчины, дочерей той поры, когда на Грецию еще не опустилась пришедшая с Востока после кончины Геродота великая ночь женоненавистничества, сделавшая из женщин либо шлюх, либо матерей — гаремных затворниц. Терезия была живой и свободной, подобно римлянкам времен той империи, которую еще не накрыла мгла христианства, навязанного апостолом Павлом. Она выросла во дворце Сан-Педро-де-Карабанчель, что в Аррибе близ Мадрида, города поселян и бездельников, затворившегося в своих глинобитных стенах, изгвазданного из-за того, что его свинарники и таверны соседствуют друг с другом и равно открыты, столицы, чьи самые суровые здания высятся бок о бок с убогими несуразными кварталами, которые щедро овевают их запахами африканского базара. Эта непоседливая маленькая женщина навсегда полюбила ту жестокую Испанию, хаотичную, провинциально завистливую, никогда не ведавшую периодов постепенного перехода, где конец лета в одночасье рушится в зиму, даже бедняки хранят достоинство, а щеголихи, проплывающие по Прадо, красуясь в своих мантильях, останавливаются, когда зазвонит колокол и «Ангелус» призовет к вечерней молитве, — страну, где лобзания зачастую обрывает удар кинжала…
Франсуа Кабаррус, ее родитель, погорев на торговле мылом, занялся было в Испании финансами, но потом предпочел вернуться в Париж. Париж… Упражнения юной Терезии в кокетстве, ее первые любовники, в четырнадцать лет брак с маркизом накануне Революции, потом уединенная жизнь в Бордо, куда они бежали от Террора, встреча с народным представителем Тальеном, тогда всесильным, которому она отдалась, тем самым направив его кипучее стремление отрубить как можно больше голов в иную сторону, — так все начиналось. Брошенная в тюрьму Робеспьером, который ее ненавидел, но освобожденная Баррасом, наградившим ее прозвищем «Таллита», как женщину, причастную к славе Тальена, ибо их чета в глазах молвы служила в ту пору олицетворением победы любви над тиранией, она с этого момента побеждала одна, не делясь более ни с кем своими триумфами.
Оркестр вновь заиграл, на сей раз под сурдинку. Терезия переходила от одной группы посетителей к другой, расточая улыбки и принимая дары. Она задержалась возле Барраса, стоявшего рука об руку со своей официальной возлюбленной Розой, вдовой Богарне, бывшего председателя Учредительного собрания, которому отрубили голову на площади Нации за четыре дня до падения Робеспьера. Вместе с ними Терезия выслушала Сент-Обена — молодой человек, наряженный так, что фалды едва не волочились по полу, в несчетный раз поведал свою героическую историю, воспев деяния мюскаденов при осаде баррикад; эпопея успела так распухнуть, что начала уже смахивать на «Илиаду». А что, разве Фрерон в «Народном глашатае» не воспел их отвагу и хладнокровие, подобающие истинным республиканцам? Мадам Делормель здесь также присутствовала, но ее бахвальство любовника не занимало, она все это знала наизусть и теперь не отрывала глаз от Барраса, а тот улыбался, мушка из черной тафты шевелилась в уголке его рта. Делормель и Буонапарте тоже пробрались сквозь толпу гостей, чтобы присоединиться к этой компании.