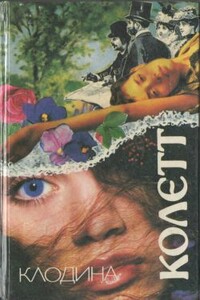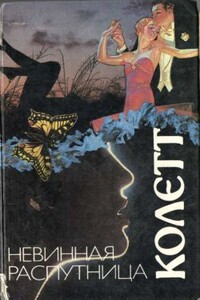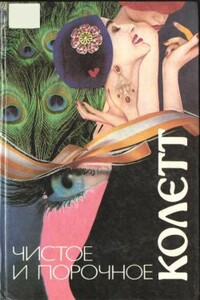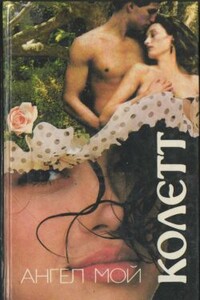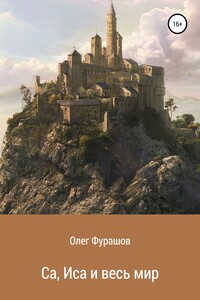– Ой! – вскрикнула Камилла.
Вспышка выхватила из мрака точно две статуи: Камилла, изваянная из сиреневого мрамора, и Ален, из более светлого камня, – волосы зеленоватые, глаза бесцветные. Когда ракета погасла, Камилла вздохнула.
– Всегда слишком скоро кончается! – пожаловалась она.
Вдали вновь заиграла музыка. Но по прихоти ветра инструменты верхнего регистра заглохли – слышны были лишь две тяжкие ноты сильных четвертей, исполняемые духовыми инструментами ритмической группы.
– Жаль! – заговорила вновь Камилла. – У них ведь наилучший в городе джаз-оркестр. Это «Love in the night»…[5]
Она принялась напевать мелодию едва слышным, дрожащим пискливым голоском, как бы едва отплакавшись. От незнакомого голоса Алену становилось совсем уже не по себе, он возбуждал в нём жажду откровения, желание сломать то, что – может быть, давно уже, а может быть, и минуту назад – воздвигалось между Камиллой и им, чему ещё не было имени, но что быстро росло, мешало ему по-приятельски обнять Камиллу за шею, то, из-за чего он оставался на месте, прислонившись спиной к стене, ещё не остывшей от дневного жара, и настороженно ждал… Он нетерпеливо сказал:
– Спой ещё…
Длинные ленты в три цвета исчертили небо над парком, поникнув подобно ветвям плакучей ивы, и осветили удлинённое недоверчивое лицо Камиллы.
– А что петь?
– «Love in the night»… Да всё что хочешь… Поколебавшись, она отказалась.
– Дай лучше послушать джаз. Даже отсюда слышно, какое бархатное звучание…
Он не стал настаивать, обуздал нетерпение, подавил ознобливую дрожь внутри.
В небе рассыпался целый рой весёлых солнышек, невесомо воспаривших над ночью. В уме Ален сравнивал их с созвездиями своих любимых снов. «Вот эти недурны… Постараюсь взять их с собой, – степенно размышлял он. – Совсем я забросил свои сны…» Потом в небе над Фоли просияло и простёрлось вширь нечто вроде блуждающей жёлто-розовой зари, которая разбилась на золотые кружки, огненные перистоструйные фонтаны, слепящие металлические ленты… В зареве этого чуда, которое приветствовали детские крики на нижних балконах, Ален увидел задумчивую, сосредоточенную Камиллу, погрузившуюся в себя самоё, – иные огни манили её…
Колебания Алена кончились, едва ночь сомкнулась вокруг них. Он просунул свою обнажённую руку под нагую руку Камиллы. Как только он коснулся её, то словно увидел эту руку, белую, едва тронутую солнцем, опушённую нежными прилегающими к коже волосками, золотистыми ниже локтя, более бесцветными ближе к плечу…
– Какая ты холодная… – тихо молвил он. – Ты не заболела?
Она заплакала совсем тихо и с такой поспешностью, что Ален заподозрил: она заблаговременно приготовилась к слезам.
– Нет, это из-за тебя… Из-за тебя… Потому что ты не любишь меня…
Он прислонился к стене, притянул Камиллу к своему бедру. Он чувствовал, что она дрожит и холодна от плеча до колен над закатанными чулками. Она послушно прильнула к нему всей тяжестью своего тела.
– Ох-ох! Не люблю! Это что, очередная сцена ревности из-за Сахи?
Он ощутил, как сразу напряглись все мышцы опиравшегося на него тела, наливаясь силой, готовясь к новой схватке. Ален заговорил настойчиво, чувствуя, что время настало, что нечто неуловимое делает разговор своевременным:
– И это вместо того, чтобы принять, как я принял, эту прелестную зверюшку… Разве другие молодые пары не держат кошку или собаку? Может быть, ты хочешь попугая, уистити, чету голубей, собаку, чтобы и я взревновал?
Она передёрнулась, издала в знак несогласия какой-то жалобный сдавленный звук. Глядя перед собой, Ален прислушивался к своему голосу, подбадривал себя: «Ну же, ну! Еще два-три ребячества, какой-нибудь вздор, и дело пойдёт… Она как кувшин: опрокинь, если хочешь опорожнить… Ну! Ну!..»
– Может, тебе хочется львёнка, крокодильчика не старше пятидесяти лет? Нет?.. Тогда удочери Саху… Сделай над собой небольшое усилие, и ты увидишь сама…
Камилла с такой силой рванулась из его рук, что он покачнулся.
– Нет! – крикнула она. – Этого не будет никогда! Слышишь? Никогда!
Кипя от бешенства, она перевела дух и повторила уже не так громко:
– Даже и не думай! Ни за что!